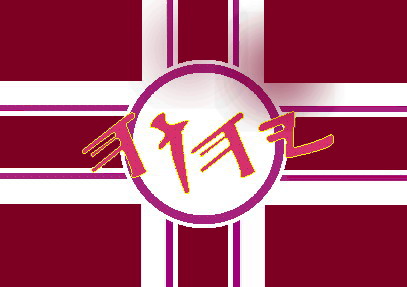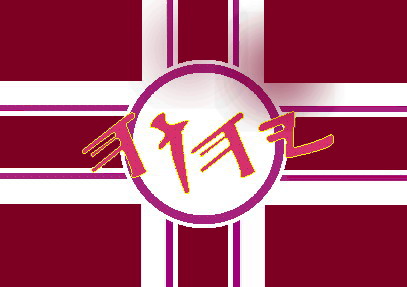|
|
Through Sun and Steel Transforming!
Алексей ИЛЬИНОВ
АВГУСТ ИОАННА
Стихотворения, лирическая проза, эссе (1999 – 2006)
Содержание:
TOTALITARIAN ARCHANGELS FOUNDATION – Первая Хартия-Медитация
Опричного Консервативного Авангарда
МУНДИР ГОСПОДЕНЬ
АВГУСТ ИОАННА (Колыбельные Нового Средневековья)
РУСЬ-S.P.Q.R.
КШАТРИЯ
СИМФОНИИ БУРГЛЯНДИИ
ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВНУТРЕННЮЮ САРМАТИЮ
СУМЕРКИ ЧЕТВЁРТОГО РИМА
ОКТЯБРЬСКИЙ URBANIB (:der verfluchte engel:)
ВЕЛИКОЕ ПРЕДЗИМЬЕ (Апокалипсис Скорбящего Ангела)
…Не только ржавчина — кровь берег твой покроет!
Ян РАЙНИС
Поэтическое название – это то, которым мы называем вещи для себя, говоря сами с
собой на нашем тайном, внутреннем языке… Поэт – это переводчик Человека в
его разговоре с самим собой.
Хосе ОРТЕГА-И-ГАССЕТ
В неизвестных солдатах недостатка нет; гораздо важнее неизвестная Империя, для
существования которой никакое соглашение не имеет значения.
Эрнст ЮНГЕР
Любовь и боль -
Всё повторится снова...
Душа воспрянет -
Слово нас спасёт.
Стефан ГЕОРГЕ
порой, невзначай, мерещится мне будто бы
пейзажи Брейгеля висят на стенах
разрушенных снарядами домов…
Илья ПЛЕХАНОВ
See the gods bow their heads
The sun is setting in the west…
SOL INVICTUS “In The West”
we fall back into
fields of rape…
CURRENT 93 “Fields Of Rape (Sightless Return)”
THROUGH SUN AND STEEL TRANSFORMING!
VON THRONSTAHL “Bellum, Sacrum Bellum!?”
T.A.F. - TOTALITARIAN ARCHANGELS FOUNDATION
(Первая Хартия-Медитация Опричного Консервативного Авангарда)
…And when we fall, we'll fall like Rome
И вот снова стоишь ты один, в поле безбрежном, снежном, простирающемся до пределов тлеющей Ойкумены, где колючие демонические звёзды обрушиваются в воющую угольную черноту, дабы стать компостом и удобрить пустоту бесконечности Ганзира. Что ныне видишь ты, одиноко стоящий в поле? Кровь, слёзы, скорбь и молчащий пепел Вышней Отчизны твоей, снегами заметённой. Всё снега, снега, снега… Тихо, безмолвно, жутко и как-то метафизически-нереально вокруг и лишь покойницкий ветер всё завывает, отпевает никчёмно-глупый, перележалый прах наш, да взметает ввысь молотую белёсую пудру. Всё снега, снега, снега… Плоть твоя отмирает, отваливается кусками и, истлевая, распадается. И ничего не остаётся – лишь призрачно-невесомый старческий остов-стекляшка, разбить кой не составляет особого труда. Тронь – и треснут, зазвенят, посыплются осколки… Да, «времени больше не будет»… Абсолютно. И кто-то Чужой, с ликом тёмным и страшным, соберёт те осколки, истолчёт в ступе, дабы развеять по ветру, чтобы и памяти не осталось… А потом Он уйдёт, сокроется в далёкой тишине, откуда явился. Ибо сказано было и отмерено: «Да помрачатся очи их, еже не видети, и хребет их выну сляцы. Пролей на ня гнев Твой, и ярость гнева Твоего да постигнет их» (Пс. 68, 24-29)? Тот, кто носит в себе «тайну беззакония» ведает, ЧТО делает. Оттого и ветрище покойницкий носится над иззябшими погостами некогда Вышней Отчизны, где души живые, кровоточащие в домовинах пёстрых, скоморошьих, уютно-убийственных, откуда возврата нет, погребены. “…I thought I saw a burning light/Saw angels fall into the night/Oh we're with god they cried/And with their god they died…” Реальность оказалась куда суровее и глянула на кривляющихся паяцев, заигрывавших с безумием, всамделишными, не игрушечными, очами нагрянувшего Зверя… But I thought I heard you call/Then watched the angels as they fall… Никого из Вас больше нет! Вы истончились, обратились в жертвенный дым, ибо закланы были сами собою же – все! – и исчезли! Вас нет, и не могло быть! «Никто не знал, что будет смешно…»
Под мертвящей коркой льда, затянувшей пламенеющие стигмы незаживающих ран, пробивается тоненький ручеёк, питающий студёной, свежей вешней водой своей новый, невиданный гумус – значит, быть Посеву и Жатве! И тот, кто вскоре вновь встанет в поле, в означенный час ощутит в себе рокочущее ртутное биение сердца Тоталитарного Архангела. И будет жутко ему, ибо страх и трепет стали его привычным образом существования, и всё внутри содрогнётся, выворачивая наружу склизкие внутренности, и отзовётся набатным воплем пыточной боли, отчего Солнце Мёртвых в изуродованном зените погаснет и через секунду вечности взорвётся сверхновой и полыхнёт пламенно-рыжим факелом всесжигающего Солнца Живых. И когда он же восстанет и отряхнётся, то, наверное, поймёт – былая, ветхая оболочка сошла и, вроде бы, вот-вот нарастёт новая, молодая, тугая и плотная, но внутри появилось НЕЧТО ТАКОЕ, отчего жить «как раньше», когда «всё-как-у-людей», становится невмоготу. Это он, Тоталитарный Архангел, вырывается из тебя, сбрасывая внешние вериги-покровы, ибо «изнурительное бегство в никуда из ниоткуда» завершено и чей-то голос сурово отчеканил как «Отче Наш», как боевой партизанский приказ: «О, Король, поведаю тебе истину: милостью Божьей, эта субстанция пребывает в тебе, и куда бы ты ни уехал, она в тебе, и нельзя вас разделить». Так в очищающем пламени Королевского Атанора созидается и закаляется стальная истинная плоть! Так Воля, Сила и Мудрость Тоталитарного Архангела овладевают тобой и направляют Слово, Образ, Дело и Дух! Не прозябание в нищете страстей и боязней, но сияющее торжество ангельского полёта! Так расправь могучие крылья-клинки, исторгни лебединый трубный крик радости и гордо, отринув сомнения обречённого смертного, устремись ввысь, к Солнцу Живых!
Знай – пышный пурпур Весны Нездешней грядёт, и Зверь побеждён будет! Я покажу тебе груды смёрзшихся камней градов минувших, дабы возвёл ты из них Град Последних и Отныне Первых, куда могли бы прийти и обрести покой те, кто всегда искал его. Ты приведёшь их туда, ты станешь их поводырём и широкой тропой!
А ещё я научу тебя писать Лики Новых Святых – с широко открытыми зрячими очами, наполненными огнём небесным, в ризах, сотканных из звонкого солнечного злата, с тонкими десницами, крепко сжимающими кресты мечей. Они утешат тебя и наставят в праведном деле твоём! Они вложат в десницу твою всю тяжесть Королевской Стали, дабы ею одолел ты Зверя и утвердил Изконное Право Свое – Право Тоталитарного Архангела – Псалмопевца, Воителя и Господина!
Слышишь ли, брат мой опричный потерянный, брат мой опричный обретённый, как в истерзанных опалённых небесах, где всё ещё гремят штурмовые орудия и вспыхивают сигнальные ракеты, гудят-переливаются колокола? Главный колокол поёт важно, величаво, словно слаженный хор певчих в Святую Ночь, а вслед ему вторят, торопятся колокола чуть поменьше. Счастливые звонари исправно делают дело свое, ибо так было заведено от начала Адамовых времён… Ибо ныне, брат мой опричный потерянный, брат мой опричный обретённый, мы становимся неделимым целым, связываем хрупкое стекло разрозненных прутьев в крепкие непобедимые стальные фасции, дабы уже никогда не распасться ржавой трухой и не сгибнуть в топкой темени все-погибели, откуда возврата нет.
Ибо наши Святые хранят нас!
Ибо ныне мы во Славу Божью творим Новое и Вечное!
Ибо ныне мы шествуем навстречу Иерусалиму – Граду Последних и Отныне Первых - «новому, сходящему от Бога с неба» (Апок. 21, 2).
ИБО С НАМИ ГОСПОДЬ ВЕСНЫ НЕЗДЕШНЕЙ!
Лето 2006 г.
МУНДИР ГОСПОДЕНЬ
(Господь, мундир Тебе к лицу…)
Слово – Свинец
В Мiра Конец…
DIE ABSOLUTE HEIMAT
Нынешние слова ничего не говорят. Каменная немота поразила всё. Нынешними словами уже не объяснить суть Священного, ибо они пусты и лишены изконного сакрального значения, бездумно утраченного ещё на заре времен. Нам остается разве что гнаться за неверным, постоянно исчезающим, отсветом «того самого», Утерянного Слова и грезить невозможным совершенством, вглядываясь с непередаваемой болью в ещё более отдалившиеся небеса. Воистину, мы обречены рождаться, мужать, стареть и умирать в замкнутом круге руин. Руин собственного дисгармоничного мiрка-паяца, где нам приходится отчаянно сражаться с исторгаемыми наружу химерами, демонический триумф которых налицо. Но иногда, неведомо откуда, рождается мольба, крик, плач. Гнетущая до безумия тоска по Неземной Родине. Die Absolute Heimat.
Слово – Свинец
В Мiра Конец…
***
Так Новое Солнце в зените взошло,
Так звёзды стегало Священное Знамя,
Так судьбы грядущего небо прочло,
Когда занималось победное пламя.
Над спящей пустыней камлали ветра.
Пески заходились в молитвенном крике.
Всевышним предсказана Верных Пора
И он открывает Незримые Лики...
Весна 2002 г.
***
Господь, мундир Тебе к лицу -
Майданы полнятся пожаром,
И норны ветреным кошмаром
Зовут к Молчащему Отцу.
Декабрьски йойка* холодов
Над капью жжёною парила,
И Солнце Чёрное чертило
Ряды червлёно-жгучих Слов.
Ты был. Подвержены свинцу
Рассветы мира и закаты.
Скажи, какая будет плата,
Когда мундир Тебе к лицу?
Когда мундир Тебе к лицу.
Господь, Тебе мундир к лицу…
*Йойка (или йойк) – шаманское горловое пение у суоми.
Июнь 2003 г.
***
Они прощать могли, умели,
Расправив шесть упругих крыл.
Над навьей чашей колыбели
Козлиной тенью сумрак плыл.
Ревела, выла, ослепляла
Эпох расстрельных череда,
Где тело золотом пылало
И расплавлялись города.
Хмельные ангелы плясали,
Рассыпав сальные власы,
И души наши собирались
Швырнуть на судные весы.
Руины, Господи, руины!
Звезда Полынная горчит,
Ярятся проклято пучины
И Глас Всевышнего молчит.
Май 2003 г.
ПАРОМ В ВАЛЬГАЛЛУ - ГОБЕЛЕНЫ
(Избранные фрагменты)
…Сны пришли прежние, языческие, порой похожие на древнее шитье норманнского гобелена из Байё, а иногда на приглушенную декадентскую пестрядь картин Густава Климта.
Вот бешеная, с пеною у рта, скачка, гон по ночным лесам, заваленным синим снегом. Кони всё чёрные, взмыленные, с безумными глазами-угольями, воспламеняющими плотный непроницаемый мрак, где стонет, плачет, каркает невидимая нечисть. И всадники на конях безликие, бесформенные, словно и не люди это. Над ними холодеют звёздные брызги - кто-то в поднебесье не нарочно, а может и намеренно, опрокинул крынку с серебряным млеком. Горизонт страшен, тёмен и пуст. Он поглощает, пожирает, переваривает любые звуки. Эхо исчезает в нём. Обратно - ни звука, ни шороха. А гон продолжается. Кони ржут, бьют копытами по стянутой льдом земле. Всадники скачут в молчании. Звёзды не отстают, несутся следом, задевая за макушки искривленных сосен, погребённых под сугробами. Ветер. Студень. Снег.
Смерть. Еще три года Зимы… Три года зимнего гона в окоченевшем мраке.
Так начинается рай…
Сон языческий в ковыльном мареве дымов. Горит, пламенеет жгучими оранжевыми космами ломкая трава. Раскалённый красный суховей разносит красную гарь. Окровавленная спата тяжелит руку. Кто я? Остгот из орды Этцеля-Аттилы, пронзённый метким вражеским копьем на запыленных Каталаунских полях? А, может, я слушал проповедь Вульфилы и крестился где-то в рыжих, долгих как чья-то - не моя - жизнь, степях Гольтескифлянда, сожжённых немилосердными солнечными демонами с плоскими ликами каменных идолов? Спаси мя, спаси, Господин мой, Князь-Кольцедаритель, Христ-Фрайя… Введи меня в рай свой, усади в Щитовую Палату, дабы я воззрел на тебя. Господин мой, Господин мой.
Wut! - крик дерёт одеревеневшее горло.
Копьё со свистом рассекает воронёные кольчужные кольца, брызжет горячим алым соком и опрокидывает в могилу ночи навстречу оголодавшим навьям…
An! - и тотчас же стихает, мертвеет, одевается чернозёмом.
Wut!
An!
Так начинается рай…
И снова ночь со звёздными колокольчиками. Степь. Степь. Мелёные мазанки, плетни, подсолнухи, нескошенная рожь. Во ржи холодеют тела. Дети боятся заходить в рожь. Седой как лунь отец Николай не велит, всё грозит пальцем, отгоняет. Говорит, грешники там лежат, богоотступники, антихристы, семя нечистое, углей чернее. Рядом фыркают кони. Телега, застланная соломой. Тряпки, побуревшие от крови, не дают пошевелиться. «Пить… пить…», - шепчут растрескавшиеся, непослушные губы. Никого. «Пить… пить… пи… ». Подходит кто-то высокий, белый, нереальный здесь, на хуторе. За спиной его - крылья, перья золотистые, светлые. Шестокрыл. «Пей, пей…», - слышу я его мягкий голос, где можно утонуть. Солоноватая, тёплая вода стекает по колючему подбородку, проливается на грудь. Простреленная навылет грудь горит. Тяжко. Больно. Фыркают кони. Ветровые всадники вздымают волны ржи. Города наши в огне. Мы - пылаем. Мы - живы. Мы - вернёмся. Смерть.
Так начинается рай…
…Однажды ветер стал другим и в середине осени выпал снег. Снегопад начался в среду вечером и продолжался целый месяц, пока не похоронил город под многометровым слоем снега. Во мгле выбеленные буханки девятиэтажек походили на окостеневших покойников, положенных в свежеструганные домовины. Жизнь замерла, забившись в тепловатые чайные норы, чьи обитатели боролись за возможность обогреться у самодельной печки (электричества не было, и потому ожидать тепла от калориферов было бесполезно) и не лечь спать голодными. Они слушали последние известия по едва дышащему радио, надеясь на лучший, ныне невозможный, исход. Когда оно не обещало им ничего путного, они проклинали всё и уходили спать в пустые, холодные кровати, где нахлобучивали на себя сразу несколько одеял. Кому-то не спалось. Он лежал с открытыми глазами, и всё смотрел в серое слепое окно, где ничего не было видно. Во дворе гибли тополя, во взбаламученной снежной каше вязли иномарки и с треском обрывались стальные провода, отяжелевшие от ледяных наростов. А он лежал, и всё смотрел, смотрел, смотрел, пока сон не сморил его…
Так началась трехгодичная Зима.
А за ней…
Я не знаю, ЧТО было ПОТОМ.
Апрель – Май 2004 г.
***
Моему другу Владимиру Кирееву
Мы в тех степях останемся навечно -
Сетей полынных нам не избежать!
Нас будут шавки жадно пожирать,
А солнце полднем выжигать беспечно.
Соляром пахнет, сталью и золой -
Поход на Запад начался не завтра!
И грифель нервно чертит карту,
Пророча башням штурм и боль.
Оно, оно железный кондотьер -
В вагинах пашен спеет семя!
Длань фасций. Яростное племя.
Слиянье царств. Смешенье вер.
Восстанет пря крестом заката.
Сетей полынных нам не избежать.
Ей, ей, гряди, Иная Рать!
Зима. Омега. Ангелы распяты.
Осень 2003 г.
31.XII.1999
(L'hiver couvert)
Нагие танцевали на столах,
Мы исчезали в мареве абсента.
Ночи дрожала влажная плацента
И растворялась в угольных очах.
Когтисты стены пасмурной зимой.
Дождливы знаки Рождества Иного.
Несказанно-негаданное Слово
Рассыпалось землистою золой.
Ей подари хламиды тишины.
Живот и бёдра золотом укрась.
Ты чувствуешь отчаянную страсть,
Когда живые жить обречены?
Танцуй же, алхимический венец!
В экстазе небожители слились.
В печах свинец рождает жизнь
И плачет красным наш Отец!
Нагие танцевали на столах.
Мы исчезали в мареве абсента.
Скользила ртуть змеиной лентой,
Сгорая в дым, стираясь в прах.
Зима 1999 - Осень 2003 гг.
***
В нас ведьмы-вьюги бушевали,
В нас рокотали медные годины,
Ржавели снега ватные седины,
Когда земные угли остывали.
Над очагами певчие кружились,
Немели звуки белой Литургии,
Когда на крест взошли Другие…
А в храмах бражники молились.
А на погостах топот бесов.
В приходах звёзды и содом.
И лишь дьячок скулит псалом,
Вдыхая тлен разверстой Бездны.
Осень 2003 г.
ОСЕННЕЕ ОЖИДАНИЕ ОХОТЫ КЕРНУННА
Чего ты хочешь,
Король над королями Красной Ветви?
Уильям Батлер ЙЕЙТС «Фергус и друид»
Ты ждать меня будешь
У сидов замшелых,
У сидов замшелых,
Где духи танцуют,
Где в вереске тени
Слюбились корнями.
Ты ждать меня будешь
Как встарь, как однажды,
У сидов замшелых
В предзимье Самхайна.
Ах, травные, травные
Ложа отравные…
(А волосы осени
медовей рябины,
а косы тугие
закатов рыжее.
Не тронь - обожжёшься!)
И вот по лесам
Застучали копыта
По рёбрам дорожным,
По ярам продрогшим.
И вот по лесам
(Там всё ветры носились,
и в ветвях молились)
Листва закружилась -
Всё золотопряна,
Всё дымные крыла,
Да горечь в утробах.
Кернунна охота
Всё гикает, скачет.
(И всадники бледны,
и всадники зимни,
и всадники вьюжны…)
О, день дрёмнокрылый!
(О, разве что омут
чернее его
(и кануть туда бы,
пропасть и забыться!),
Зрачки его – птичьи
(О, в них бы сокрыться,
до воска истаять
и вскрикнуть до крика!))
О, клики ночные –
всё тихнет, всё гаснет
(Их вереска пальцы
в узлы заплетают
на масках, где
ужаса шлемы
пунцовы)
Ты слышишь ли топот?
Ты чувствуешь ветер?
То гон по лесам
Кернунна охоты
(их лики – что бездны,
их кони – что волки,
их клики – что стоны)
Так чары творятся,
Так боги родятся
В чащобах потайных…
НА ЗАКАТ, НА ЗАКАТ, НА ЗАКАТ!
ГОСПОДЬ – НАШ КОНДОТЬЕР!
A New Soldier Follows A Path Of A New King
Ударь в барабан, мой Господь! Ударь в барабан! Бей!
Я слышу – на Западе ржавь, и голодны трупники там…
Мы йдем на закат, мой Господь! Ударь в барабан! Бей!
На Западе – тошная муть в хоромах былых королей.
Ударь в барабан, мой Господь! Я - твой барабан! Бей!
Я – молотокрест на хламидах твоих! Бей мой Господь! Бей!
Я – вскрик Монсегюра в Граале твоем! Бей мой Господь! Бей!
Я – Орифламма в деснице твоей! Бей мой Господь! Бей!
Так плоть барабанная – кожа моя! Так кровь моя – громы его!
Я – твой барабан! Бей мой Господь! Бей мой Господь! Бей!
Бьёт барабан! Бьёт!
На закат, на закат, на закат!
В млечном молчании время умрёт,
Небо сбирает солдат…
На закат, на закат, на закат!
Кубки - пусты. Короли – не здесь. Личины – угли в горсти.
Слушай! О, слушай – в метелях косматых ведьмы плетут хоровод:
«Так было, так будет, так есть!
И несть нам числа, несть!
Неужто ушло? Нет!
Неужто взошло? Да!
Мы помним – были года!
Мы помним – текла вода!
И несть нам числа, несть!»
Мы помним – были года! Мы помним – пламя и высь!
Мы помним – реки текли! Мы помним – ветры в полях!
Мы помним – тяжко зерно! Мы помним – жатва пришла!
Мы йдем на закат, где яства, что яд, где воды, что падали кровь…
Так ударь в барабан, мой Господь! Ударь в барабан! Бей!
Я слышу – над Западом грай, там трупников ныне не счесть…
Так грохнет весна – бей! Так вспухнет пожар – бей!
Так жатва в полях – бей! Так колос в снопах – бей!
Пока ещё бьет барабан…
Пока ещё бьет барабан…
TOTUL PENTRU TARA
(Дакия! Крестная рана…)
“Те, кто верят в Бога и в Легион беспрепятственно войдут в наши ряды.
Тот же, кто колеблется и сохраняет молчание останется в стороне”.
“С улыбкой на устах мы смотрим в лицо Смерти.
Мы команда Смерти, которая победит или умрет”.
Корнелиу Зеля КОДРЯНУ
Дакия! Дакия! Крестная рана -
Осень Господняя. Клич Капитана
Стонет набатами, рдеет зарницами,
Реет кричащими красными птицами.
Пулей крещёная Гвардия Спаса,
Гвардия Гневного, Судного Гласа –
В небо хоругви! Ярое – Ново!
Слышишь ли, Дакия, Богово Слово?
Волки крылаты. С нами – Иные!
Меркнет Европа. Трупами стынет…
Волки крылаты. Запад пылает.
Гвардия Спаса по гарям ступает.
Вёсны грядут огневые, зелёны.
Ангельских ратей грядут Легионы.
Дакия! Дакия! Крестная рана…
Ангелы душу несут Капитана…
Гвардия Ярого Спаса!
Гвардия Судного Гласа!
Душу храни Капитана,
Дакия – Крестная Рана…
Дакия – Крестная Рана…
CASA VERDE (ДОМ)
Той осенью небесные соборы
На камни лили свет иной.
В туманах издыхали горы,
Молча оглохшей тишиной.
Мой Капитан, мы были правы,
Когда дышать не стало сил,
Когда в огне нездешней славы
Ты к Солнцу Мёртвых уходил.
Мой Капитан, мутнеют дали.
Во мглу листвою нас несёт.
Ты слышишь? Ангелы рыдали.
И был их плач пожар и лёд.
Земля была смертями пьяна.
Мой Капитан - мы дома! Да!
Разверзлись выси рваной раной,
Где мы исчезли навсегда
Мой Капитан, мой Капитан…
***
Мне мнится меч в сияющей руке,
Расплав знамён течёт в закаты,
Рубцы крестов на гулких латах,
И Град Последний вдалеке.
Благовестят пернатые псалтири:
«Брюхата царским солнцем медь!»
Мы – вереск льдов медвежьей шири,
Где сон не сон и смерть не смерть…
Мой Гневный Бог, я снова вижу -
Посев мечей сулит нам рок…
Мы – шерсть ветров свирепо-рыжих
В снегах, где всходит Рагнарёк.
Семя – Начало
Солнце молчало
Крылья наружу
Смертная стужа
Пропасти-раны
Тихнут курганы
Вёльвы гадали
Мёртвые встали
Кто нас окликнул?
CIVITAS SOLIS
(Гелиополис-Фронт)
I
Огнестраницы умей прочитать
Дней на закате. Вечер, цикады,
Волны, Борея, чёлны, причалы.
Видишь? Смотри! Там, в горизонте,
Там, где кострами лохматятся замки,
Город Последний, Город Рассветный -
Образы - чудны, фрески – пастельны,
В камнях – молчанье…
Вечер. Цветов электрических несть.
Шум на проспектах, в кирхах – прощенье,
Факелы в высях…
Значит, ты видел?
Если настанет срок
Прочитать
Огнестраницы
Так прочитай,
Если сумеешь,
Если достоин,
Если прозрел…
Грёзы иль вечность?
Бродишь, не веришь -
Громы и выси, светы и ночи…
Грёзы иль вечность?
Город Последний, Город Рассветный.
II
Да, нам не миновать! Умолкнуть городам.
В яминах дохнуть крапиве да мухам.
Не миновать, раз слепнет вышний свет!
Смотри! Пока ещё смотри…
Ведь небо каменно и срок его отмерен.
Ямины нам. Нам чернозёма кус,
Нам крапива, нам выстрел, нам июль…
Нам мертвецы… Нам тишина… Нам тлен…
Да, нам не миновать, раз будут
И если будут… Будут лить дожди?
Да, будут лить дожди! Да, будут лить дожди!
Прольются, опрокинутся в луга,
А после вскинутся мостами в птичью даль -
Там вскликнут ангелы, там солнца покачнутся,
Там будут, будут лить дожди!
Пока…
В гортани – тля, землится мгла в глазах…
Прости земля. Прости земля. Прости…
Простите меня, вышние… Не смог.
Не прочитал.
Пока ещё…
Прости…
III
Как в сорок первом пить смольную кровь.
Гнить в блиндажах. Стальную сечку жрать.
Ползти, молчать в пейзажные дымы.
Там, впереди, рассветы и поля.
Там, впереди, огни, огни, огни.
Господь, рассыпь холодное зерно
На полотнище снежнотканом.
Холодное, холодное зерно
Мир создан был уже давно…
Сгибнуть в полях, сгибнуть в рассветах,
Сгибнуть в метелях, сгибнуть до срока
В лета конец…
Холодное, холодное зерно
Мир создан был уже давно…
РАЙ ВИСЕЛЬНИКА
(we fall back into fields of rape…)
…and when Rome falls
falls the world
CURRENT 93 “Rome for Douglas P.”
И через щели мира, как дымка из шалаша,
Рассеиваясь в пространство, моя просочится душа
Лопнул китайский зонтик, с дождями пришла весна
В Египте восходит солнце, а в Риме взойдет луна.
Кооператив НИШТЯК «Летучий Корабль»
1.
-Вииииисельник! Висельник! Слышишь меня? Эй, эй, Висельник?!? Ты… Здесь? – прошептал чей-то хриплый голос, прокуренный до невозможного основания, отдающий колючей вонью дешёвой солдатской махорки. В ответ последовала тишина - оглушающая, мутная, пропахшая насквозь крысиным блиндажным тряпьём. Бурая, словно корка засохшей крови на гимнастерке, ночь распластала рваные крылья над отвалами шахт, жидкой грязью бесконечно-бессмысленных полей и приземистыми слепыми бараками, где уже давно никто не жил. Туманило мартом. Бельмо луны мучным гнойником пухло в замшелых старческих облаках. А Висельника всё не было… Он и не думал останавливаться. Промчался невидимо вместе со своей безгласной свитой.
-Вииииисельник! – снова затянул голос… и рухнул в сырые веники бурьяна, где стыло серое пятно прошлогоднего рождественского снега.
Ещё какое-то время он вслушивался в пустоту. Ждал. Затем сочно плюнул в сторону луны, ударил ладонью по ржавому кубу бака (как всегда, бак скорбно загудел), где скопилась талая вода, и побрёл прочь.
Сойти вниз было не так просто. Требовалась определенная сноровка. После заката прошёл дождь, и щебень на отвалах стал скользким. Тоненькое журчащее попискивание ручейков отчетливо слышалось в сдавленной тишине. «Надо успеть набрать воды! Потом прокипятить… В ведре осталось-то всего ничего», - вдруг спохватился он и убыстрил шаг. Щебёнка предательски захрустела под разбитыми подошвами ботинок и посыпалась к основанию склона, где размытой тенью скрипела какая-то изогнутая железка. Обломок невесть чего. Крик-крак. Крик-крак. Скрип. Скрип. Скрип. Чей-то скелет, уцелевший ещё со времен Эвакуации.
2.
-Грешные вы все! Грешные… Висельник не возьмёт вас в Царствие Свое… Не возьмёт… Помяните моё… слово. Висельник знает, кто ему нужен… знает… Я помолюсь ему… чтобы он сыночка моего… и внучка…, - старуха умирала тяжело, впадая в забытье и разражаясь после отрывистым карканьем, напоминавшим речь.
Он подобрал её на окраине дороги, где бомба вдребезги разбила обоз с беженцами. Она и ещё пара человек – ребенок лет семи или восьми, не умевший говорить и слепоглухонемой старик - выжили. Ребенок умер от какой-то странной болезни - тело от неё распухало и сочилось мерзкой сопливой влагой.
А ему было всё равно. Эвакуация умело прибирала мертвецов. Сколько их гнило в придорожных кюветах, тошнотворных глиняных балках, замшелых рыжих лесах, смрадных болотах и сладковато-жженом мусоре городских муравейников, растоптанных чьим-то сапогом.
-Грядёт, грядёт Царство Висельника… Я сама видела его. Сын мне сказал об этом… Он в Царствии Его… Он сгорел ведь… В похоронке об этом написано… И внучок мой… сгорел… Огонь забрал их… Угли они… пепел… А вы… вы грешники! Не возьмут вас… Здесь сгинете… Ииииии….- заплакала старуха невидящими глазами. Седые космы распластались на засаленном ватнике, заменявшем ей подушку. Он зачерпнул воды из мятого ведра и прислонил кружку к пронзительно-черной избитой язве рта. Старуха не хотела пить, вода стекала на впалую грудь по шершавому подбородку. Задыхаясь, она продолжала:
-Вот Царствие Его грядёт… И сыночек мой будет там… Грядёт Висельник и сподручные его… И конь его что лето и зима… Жар он и снег… И звери хищные грядут с ним… И в церквах заупокойные читаться будут… И певчие в крови… и певчие… Висельник… Сыночек, сыночек мой… забери меня… Забери меня… Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный…
В углу зашевелился старик. Оттуда донеслось острое дыхание изрядно немытого тела и мочи. Старик врастал в землю. После смерти ребёнка он не выходил из блиндажа. До того, как свалиться, старуха выводила его наружу. На морозном воздухе грудь старика едва заметно вздымалась и опадала. Из легких с тягучим свистом выходил воздух. Старуха что-то говорила ему. Старик ничего не слышал, а только хватался за ее высохшее запястье. Они ходили к могиле мальчика – куче битого кирпича, над которой возвышался крест – две связанные крест-накрест проволокой промасленные доски от оружейного ящика. Старуха неслышно молилась. Старик дрожал рядом.
Они возвращались. Старуха усаживала старика в его угол, а сама ложилась на ложе – нары, застеленные землисто-грязной шинелью. Старуха жалась к бревенчатой стенке, подбирая под себя тощие синюшные ноги в остатках вязаных носков… С потолка капало. Старуха морщилась, отодвигалась, куталась в полу. Наконец, засыпала. Иногда во сне плакала, и всё беспокойно повторяла: «Сыночек… сыночек мой…».
Видел ли старик сны – этого он не знал. Да и не желал знать. Он ждал…
Старик врастал в землю.
-И змей пролетит… смрадный над вами… все покойники, покойники под крылами… и в каждой избе покойницкая… и крапивою, крапивою пахнет… и гробы-колоды на лавках в сенях… А читалка-то все поёт да приговаривает: «Висельник грядёт, грешные вы! Висельник…». Читалка всё бормотала: «Придет Висельник… Ой придёт!!!». Сыночек… сыночек мой. Уголья. Горе-горюшко моё. Где, где косточки твои? В каком поле-полюшке схоронены? Я бы собрала их… я бы завернула в платочек… я бы носила их как ладанку… как образочек мой материнский, крестильный. Баю-баю, бай-бай… спи сыночек… засыпай…
Спи сыночек… засыпай…
3.
А сны не шли. Он просыпался, лежал некоторое время с открытыми глазами, буравя ими оглохший блиндажный сумрак, нехотя вставал, ёжась от вездесущей ночной мокроты, и брёл мочиться на улицу. С мокрых скользких веток капало. Было слышно, как капли тяжело бухались в лужу – каааапп… и глухой плеск, как будто невидимая рыбина размером с бревно плеснула хвостом и ушла на глубину… Пауза. И снова то же самое - каааапп… и плеск.
Почему-то он вспомнил дальний безымянный пруд за Поповским лесом, где они с дядькой ловили карпов. Карпы были сонные и громадные – таких он ещё никогда не видел. Пучеглазая живая слюда, медленно угасавшая на вечернем солнце, уходившем за майдан. Ближе к ночи была уха. Свежая, наваристая, пахнущая дымком. Дядька наливал в чёрную от копоти миску обжигающий душистый бульон и клал в него здоровенный кусок рыбы. Ели с волчьим аппетитом, заедая пахучее розоватое мясо карпа ржаным хлебом. Потом, разомлевшие от жирного ужина, запивали его чаем. Дядька не жалел заварки. Чай получался бордово-красным, с брусничными прожилками, и крепким.
В ту ночь дядька рассказал ему о Висельнике. Он лежал на плащ-палатке и смотрел на рыжее пламя. Оранжевые светляки искр улетали в пронзительно-синюю темноту и исчезали там.
«Висельник он вот какой… Когда наступает его срок, он возвращается… Скачет по полям вместе со своими бойцами… Не каждый может выдержать его взгляд. Висельник он таков – одних милует и даже наградит, а другим всё – зараз падают замертво. На последней войне, в роте был у нас сержант, видевший Висельника и даже говоривший с ним. Кажется Крысин. Точно – Крысин. Или, подожди, Крысин был в соседней роте… Не помню… В общем, плюгавый такой сержантишка, но живучий – дай Боже! Так вот – увидел он Висельника, а тот и говорит ему: «Как твоя рота, сержант? Все ли готовы? Не заржавело ли ещё ваше оружие?». Сержант, конечно, испугался, но нашёлся что ответить: «Всё хорошо… Все живы-здоровы. И оружие наше в порядке… Бьём врага к ядреной матери… Бьём и не жалеем». «Да неужто?», - расхохотался Висельник. – «Всё равно скоро все ко мне пожалуете… Знаю я это. Да не боись, ты! Не боись, сержант! Этой войне скоро конец – и баста! Другие придут на твоё место… А тебе скакать вместе со мной по полям да буеракам». Сказал так и пропал.. А сержант… Всё, как Висельник сказал, так и произошло. В самом начале наступления роту накрыли свои же снаряды. Да, брат, это тебе не киношки смотреть… Земля трясётся. Люди падают… Их вдрызг, в клочья. Сержанта убило наповал. Осколком прямо в грудь. Я же спасся… Хотя как спасся – посекло осколками грудь и ноги, да рука вот правая еле-еле действует. Потом рассказывали, что Висельника видели старики в деревнях, во время Великого Трехлетнего Голода. Да… богопротивные то были времена… И не приведи Царица Небесная жить в них… Жрали всё что попадётся - кору деревьев, траву и даже солому. А кое-кто и человечиной не брезговал. Голод он не тетка. А когда жрать хочется так, что мочи нет – кого угодно сожрёшь. Впрочем, сам понимаешь… не маленький уже. Висельник собрал тогда богатый урожай... Цап… и еще одна душонка его. Был солдатик – и всё. Каюк! А потом видели душку на взмыленном черном, что крыло воронье, коне, мчащемся во весь опор… Только грязь из-под копыт… Цок-цок-цок… и топот. Страшно? То-то… А Висельник вернется… Как есть вернется».
И потом в ночи всё чудилось конское ржание и чей-то хохот: «Да неужто?». Хотелось плакать – но так, чтобы никто не услышал – ни-ни!!! - и зарыться по самые уши в землю. А дядьке было хоть бы хны – знай, храпел себе. Костерок угасал. Под утро от тепла не оставалось ничего. Даже уголья погасли. Над прудом стлался туман, воровато пряча в брюхе новый день. Новый светлый день…
Каааапп… и плеск.
4.
Тени приходили сразу же после полуночи, когда на небе не оставалось ни одной звезды… Он вызывал их, советовался… Но они лишь мельком видели Висельника. Тот подолгу не задерживался на одном и том же месте.
Старуха умерла под утро, когда за единственным оконцем охнуло и начало бледнеть. Его разбудил стонущий, детский плач старика. Старуха лежала на шинели уродливой болотной корягой, почерневшей в вонючей стоялой воде – острый вытянувшийся подбородок, полуоткрытый беззубый рот, провалы глазниц, восковые, с плесневой прозеленью, морщинистые узловатые руки с обломками ногтей. Старик выл тоненько, жалобно. Иииииыыыы… То ли как ребёнок, то ли как щенок-молокосос возле трупа сдохшей матери. Хотелось или пожалеть его, успокоить, или грубо прикрикнуть: «Эй ты, а ну заткнись!».
Но он поступил иначе… Завернул почти невесомое тело старухи в обрывок брезента, поднял куль – ноги с неестественно большими ступнями выпростались из брезента и свесились вниз - и понёс его к могиле мальчика. Старик же остался скулить в блиндаже.
Старуху он похоронил рядом… Яму рыть не стал – долго и нудно. Завалил кирпичной крошкой – благо её было много вокруг - и слегка присыпал землёй. Подумав, нашёл две палки, связал их наподобие креста и воткнул в могильный холм. Постоял минуты две.
-Где твоя рота? - он поднял глаза. Висельник… Дождался!
-Висельник… Висельник…, - вырвалось из горла.
-Где твоя рота? Готов присоединиться? Бережёшь оружие? - Висельник наклонился к нему. Дохнуло гнилыми садовыми яблоками…
-Да… берегу. Я готов… Давно готов… Висельник, забери меня…
-Да неужто?! - Висельник расхохотался. Те, кто пришли с ним, загудели… Заржали кони.
-Я готов…
-Верю, верю… Почему ты не сберёг роту? Мою роту…, – отозвался он.
-Они ушли… Все ушли… Я – остался. Здесь… Ждать тебя, Висельник!
-Жди… Теперь уже скоро!
-ЖДИ…, - этот невозможный, до боли знакомый и, в то же время, незнакомый, голос он узнал… Не мог не узнать ЭТОТ ГОЛОС из другой, как будто прошлой жизни, где были пруд, карпы, пахучая уха и утренняя роса.
5.
В блиндаже он снова перепроверил оставшиеся боеприпасы и оружие… Без изменений. Совсем как тогда, когда он впервые перенес их сюда. Видавшая виды винтовка, три обоймы, пара гранат, запалы. Без изменений. Еще планшет с выцветшей от времени, старой ненужной армейской картой (иногда, когда было совсем уж невмоготу и внутри начинало ёкать, он вынимал её, бережно разворачивал на коленях и долго всматривался в условные обозначения городов, линий обороны, аэродромов и танковых полигонов – ноготь водил по дороге в лесу, упирался в мост, пересекал его и исчезал в пригородных оврагах, а оттуда выбирался к железнодорожной ветке и по ней, неспешно, прямиком до города и затем, окончательно, исчезал где-то на его улицах).
А старик всё продолжал и продолжал скулить в своем углу… Тогда он не выдерживал и прикрикивал на него. Не помогало. Старик тихонько подвывал. Ииииыыыыы… По его землистому морщинистому лицу языческого идола, каким-то чудом сохранившегося во всеобщей паранойе Эвакуации, катились слезы. Настоящие слёзы! Мертвецы… Вокруг одни мертвецы! Мёртвые… мёртвые… Все на свете этом… Он пнул его в бок… Старик всхлипнул, уткнул голову в тщедушные коленки, кое-как прикрытые полусгнившим тряпьем, и умолк. Из его угла несло свежей мочой… «Под себя ходит, гниль…» Мертвецы… о, мертвецы… Целый мир отходящий… Неизвестно куда… к неизвестно каким небесам… неизвестно каким богам… Да и есть ли он, Бог, когда липкую предвесеннюю мглу агонизирующей зимы разрывает мертвецки-молчаливый гон Висельника?
Нет, он молился – молился как умел, искренне, но верить – верить - перестал. Почему-то перестал сразу же, как только началась Эвакуация и всё знакомое, такое близкое ему, начало отходить, тонуть, пропадать в непроглядности безвременья, издавая, напоследок, омерзительный крысиный писк. Старик как раз и был одним из тех, кто утонул тогда…
А тонули страшно… С изуродованными от боли ртами с остатками кариесных зубов. Ломали ногти, пальцы и рёбра. Теряли облик и с каким-то сомнамбулическим – не иначе - наслаждением бывших человеков рвали друг друга на части, стараясь хоть ещё немного продержаться на поверхности. Крысы… Зверье…
Снова вспомнился дядька и его слова, задумчиво произнесенные перед сном: «Вот так, племяш, всё-то и проходит… Раз – и нету!!! И мы пройдём, как пить дать! Совсем как та звезда. Не сиделось ей на месте. Она раз – и упала с неба… Видно перегорело у неё что-то. Погас огонёчек и уже ничто не воскресит его… Спи, а я ещё покемарю». И дядька затянулся, запыхтел самокруткой. А где-то там, в немыслимо-неприступной вышине, где ночуют ангелы, загорелась, чиркнула и стремительно понеслась вниз, крохотная звездочка… Чиркнула и пропала… Дядька сплюнул и затушил окурок.
И еще он вспомнил какую-то давнюю, длинную молитву… «Живый в помощи Вышняго…». Вспомнил и окаменел. Глаза, привыкшие к потемкам блиндажа, смотрели на треснувший приклад винтовки, обмотанный липкой лентой, а губы… губы повторяли снова и снова «Живый в помощи Вышняго…». И тут он рассмеялся – смех как-то сам вырвался из него: «Да кто поможет тебе, а? Да и жив ли ты ещё? Скорее нет…». Неужели Висельник был прав и в этот раз? Выходит, что прав… Пока остаётся только одно – ждать Висельника и надеяться, что однажды он поставит точку. На всём отходящем неведомо куда.
6.
НО КУДА ВСЁ ОТОШЛО?
Он как-то и не задумывался над этим.
До тех пор, пока не увидел ярко-оранжевое, такое тёплое, такое привлекательное, такое живое и невозможное ЗАРЕВО там, вдали, за топкими квадратами полей и метёлками лесопосадок.
Сначала он не поверил. Вернее, что-то невидимое, инородное, всплывшее из клубка донного ила, отказывало ему в желании поверить. Как всегда дотошно пересмотрев оружие и боезапас, он забрался на отвал и слушал, слушал… Слушал пустоту, жадно глотая жижу сумерек. Напряжённо, до звона в ушах, слушал и терпеливо ждал, когда объявится Висельник.
Но ничего не происходило. Сумерки склизким червём переползали в угрюмую ночь, мало чем отличавшуюся от не менее уныло-бесконечного покойника-дня.
КУДА ВСЁ ОТОШЛО?
Когда он ощутил ЭТО и почувствовал, как душа по-бабьи завыла, запричитала, заголосила? Когда в нём пробудилось осознание Когда-то Произошедшего? Где тот мiр -его мiр, бывшим с ним с самого рождения? Мiр, где всё было Иным, ещё «не отошедшим», не посмевшим «отойти». Мiр, где не было Висельника и его свиты, охотно подбирающей еще «не отошедших». Мiр, где августовское дымное солнце нагревало траву, начинавшую пахнуть близкой осенью.
И ещё в памяти всплыли кадры из фильма, где однажды все люди и животные исчезли с лика Земли, переместились в чужое измерение. Неужели всё так и случилось? Была Эвакуация, были никчемные скитания-шатания по безъязыким, делириумным лесам и оврагам, беспокойные ночевки в заброшенных домах и сараях, скудный ужин из пары печёных картофелин и тепловатой дождевой воды из придорожной лужи, пробуждение в холодном поту, одиночные выстрелы и внезапный провал в пустоту.
Но было и ЗАРЕВО. Он долго всматривался в него и не верил. Отказывался верить, что в его смутной «не отошедшей» жизни что-то произошло. Какая-то перемена, ранее невозможная.
КУДА ВСЁ ОТОШЛО?
Не туда ли, не в это ли зарево? Быть может, это и есть призрак киношного Измерения, притягивавшего его всё сильнее и сильнее?
Висельника он так и не дождался. Вернулся обратно в блиндаж, забрался на нары, завернулся в шинель – кутался долго, тщетно пытаясь отогнать колючие иглы ночного холода – и, наконец, уснул. Спал беспокойно. Просыпался. Старик глухо постанывал и плакал. Прикрикнул на старика и снова рухнул в небытие. Вскочил на рассвете. Голова гудела, что-то глухо бухало внутри кладбищенским колоколом. Первым делом пальцы слепо нашарили винтовку и рванули на себя.
ЗАРЕВО…
Сон. Навязчивый, идиотический до омерзения, до тошноты и невольной рвоты сон-обманка. Эдакий Мираж Всевышнего. Зыбкая, смутная надежда для Падших.
Ночь неохотно уступала место хмурой сыри рассвета. Старик, похоже, уснул. Он негромко окликнул его: «Эй... эй, старик. Ты жив ещё?». Или… Без ответа. Старик, похоже, спал. Он заглянул в его угол. Старик свернулся в клубочек, прижав коленки к груди, скрюченные хворостины рук сложены на животе. Спал он тихо (необычайно тихо), и лишь раз, с какой-то невиданной гранитной тяжестью, вздохнул. Похоже, ему ничего не снилось. Не могло. Отошедшим ничего и никогда не снится. Они лишены сего. Чёрно и душно в душах их. Словно в гетто для прокажённых. Среди гнили и мерзости. Вязкой и осязаемой. Это суровый Вышний Приговор, не подлежащий обжалованию. Да и невозможно вычеркнуть то, что Ангелы Божьи начертали кровью на лазури небесной...
Осень 2003 – Лето 2006 гг.
AEGISHJALMAR
Ангелы-волченьки, иноки мглистые,
Рубища снежные, святочно чистые.
Плачут родимые, плачут проказные,
Ангелы-волченьки, огненно-властные…
Крылья набатные, вьюжные, млечные
Кличут над долами горними, вечными.
Ангелы-волченьки, заревом пьяные,
Смертию правые, красные ранами…
Вышние канули, рухнули падалью.
Ангелы-волченьки рунами падали
В сумерки хвойные, марева дымные.
Ангелы-волченьки, звёзды полынные…
АВГУСТ ИОАННА
(Колыбельные Нового Средневековья)
MARIENBURG JUGEND
Marienburg Jugend (I)
Храни детей своих, Архангел Михаиле!
И пали, пали вновь снега
На башни, на усопшие поля,
На душных улочек острожные канавы,
Где заблудиться можно…
Сегодня торжество!!!
Как свято и чисто
На небесах, на море, на земли -
В Мариенбург пришла Зима Владык…
Ах, если б в дюны убежать –
Туда, где только ветер и волна,
Где соль волны стегает по глазам.
Ты помнишь лето? Тишина, жара и лёгкий бриз
С серебряного, словно гривна, моря.
Тогда нашла ты бабочку в медовом янтаре –
В окаменевшей мути смоляной
Пылали хрупкие, прозрачные крыла –
Такие хрупкие, как дым, как сон, как смерть,
Как жизнь сама, как эта бабочка, уснувшая навеки
В том янтаре…
А после журавли прощались с нами. Волны бились в скалы.
Казалось мне, что рухнут бастионы
И потоп
Поглотит сызнова
Всю нашу суету.
На площадях захожий проповедник
Вопил: «Пора, пора, пора! Господь зовёт
На солнце, на восток, за горизонт!
Я видел Рай! Я видел Крест Рассвета!
Грядёт, грядёт Зима Владык!
Седлать коней!
Трубить поход!
Трубить!
О, мечегромная, расколотая высь!
Ты – колокол последнего исхода!
О, Балтикум!
Я видел, видел Рай!
Я видел, видел Крест Рассвета!»
В Мариенбург пришла Зима Владык.
Европа издыхала на закатах. Гнила свиньёй -
Великой, рыхлой тушей, зловонной формалиновым нектаром.
Европа издыхала и молилась.
И ангелы носились над собором,
Где пели «Ave!» и мечи кропили
Слезами, кровью, талою водою,
А после уплывали за пределы,
За край голодной, выжженной вселенной…
Тогда недоставало хлеба
И купола светились Преисподней.
А мы? Мы были дети, только дети,
Бегущие по травам, по холмам,
Смеющиеся радостно, хоть было
Нам жутко просыпаться в колыбелях,
Когда мертвели звезды смоляные
И Орион метал за жалом жало.
Нас матери баюкали: «Усните.
Уймется Тьма, а после Воскресенье».
Но мы не верили, а всё мечи кропили
Слезами, кровью, талою водою.
Но мы не верили, вздымали паруса,
Взмывали ввысь и плыли, плыли, плыли...
Смерть Запада? Безделица, однако…
К чему мертвец спасён
Когда
В Мариенбург пришла Зима Владык?
В Мариенбург пришла Зима Владык…
Marienburg Jugend (II)
1.
Истлеть Европе в эту пору лета...
Истлеть, умолкнуть, гаснуть, не простить -
В зрачках твоих – лишь муть да тишина…
(Мертво, мертво сегодня, ангел мой!)
Нас пожалей, о, мартовская мгла!!!
Воздай за то, что не дожили мы,
Воздай за то, что крошится слюда
И вороны картавые хрипят…
Воздай за то, что куклою сырой
Я издыхал в окопной наготе…
(Я вспоминал ту бабочку в смоле,
что в дюнах мы нашли когда-то.
Тогда…
Мы были дети, только дети,
Бегущие по травам, по холмам,
Смеющиеся радостно, хоть было
Нам жутко просыпаться в колыбелях)
Мертво, мертво сегодня, ангел мой!
Нас кровь зари
Не воскресит, убьёт…
2.
Снеготика - чумные горизонты.
Кольчужны лики беженцев-богов.
И только: «Кра!!!» над нами
Только «Кра!!!»
Звериным рыком танковых небес…
(Так пала высота, но снизу всё бубнили
О том, что «ничего», «всё хорошо», «пройдёт»…
Зима трубит.
Омега.
Откровенье.
Так Юга началась,
Дохнув метелью, тальником и смертью
На дали, дымы, долы, косогоры,
Исторгнув гари, кровь и города…
Дай Веры, Господи!
Дай Слова нам и Жизни,
Пока не сгинули,
Пока зима трубит…)
Как много падали на тонущих судах,
Как много спама, подлости и смога
В мирах, где снятся Калки и погост…
Но…
Крест
Есть
Холод
Молот
Холод
Молот
Крест
Так Крест рождает Молот
Молот – Крест…
Молот
Крест
3.
Мертво, мертво сегодня, ангел мой!
Зима трубит, зима трубит…
Зима 2005 г.
РОГОЖНАЯ ПЕТЛЯ
(песенка для Тони Вейкфорда)*
и лист опавший оставляет след
разряженного воздуха и смерти…
Илья ПЛЕХАНОВ
Отгрохотать, сорваться и упасть…
Сколь много слов у мира окончанья!
Так тявкает в нас тля – рогожная петля
На вые тощей…
(Эй, не крестись! Не надо!
Не перекрестишь
Выжженный сосуд
Ноябрьской плоти…
О, нет! Прости…
Пасхальные дымы
Не воскресят отныне,
Отлетят, оставят
Когда крыла
– загнившее тряпье!
Иди, шагай, шагай
Сдыхай в суглинках,
Низвергайся,
Тони, тони!)
Хляби, грязи, поля, дожди, кафешки, городки,
Церквушки, дыры, сливы, автобаны, бургеркинги,
Людские морги, пыльные закаты
Над сальным горизонтом…
Да, снова тля –
Рогожная петля.
Зима трубит, зима трубит…
*Тони Вейкфорд (Tony Wakeford) – поэт, музыкант, лидер легендарного музыкального консервативно-революционного dark folk проекта SOL INVICTUS.
МОЗДОК
(Мать Декабря)
Когда шинель сочилась из окопа
Мне стало страшно, тошно, шатко…
Земля набухла трупными снегами,
Стервятиной, бурьянными штыками…
О мать, о мать, родившая мечи!
Нора дышала крысами и калом,
Да нудно ныли ржавые ветра
Нас стружкой мёрзлой осыпая…
О мать, родившая мечи,
Ты сродни шлюхе, сучке рыжей
(Скажи, камрад, ведь ты о ней мечтал?
Не раз мечтал перед атакой,
Перед броском
На Север
На Восток
На Юг
На Запад –
Лишь бы не назад -
Ко вшам, консервам, тифу и борделям,
Махорке, поту, нарам и теплу?
Здесь, у Моздока, как-то «по-другому»
Встречаешь утро (сирое, слепое…)
Глоток тумана
Очередь в упор
Свинцовые цветы на камуфляже
Закат Империи)
О мать, о мать, нагая мать, родившая мечи!
И если крысам выть в блиндажных переходах
И ангелам бензиновым гореть
И «градам» рвать стреляющие дни –
Благослови нас, мать, родившая мечи.
О мать, о мать, родившая мечи!!!
ФОМАЛЬГАУТ. ХАЙНСКИЕ СТАТУИ
(Страсти по Роканнону)
(Вольный перевод с галапиджина)
Урсула Ле Гуин «Хайнский Цикл»
1.
Истаять мрамором под звёздным покрывалом
И пасть на землю – древнюю, чужую.
Здесь Ойкумена, свитая в спираль,
Зеленолико изрыгает пламя.
Аменти. Время. Завершение. Порог.
Скажи, о ангья, что мне делать,
Когда один, педан, Скиталец,
Беглец, в ненастье отошедший?
Но ты молчишь, мой друг,
И только
Хрипит луна
В дожде осеннем…
«Отпей! Отпей! Да, будешь вечным…», -
Я чей-то голос слышу.
Зачем пришла ты, Семли (О, зачем?)?
Я
Стар,
Безумен,
Сед
И вечен, вечен, вечен…
О, чаша деревянная князей,
Испитая над пропастью однажды…
2.
(травяной гобелен в замке Владычицы Ганье)
…Крылатый пал. Но бронза пела в ножнах
и ночь качнулась, взмыла, поплыла,
Дохнула травами, богами и звездою.
Нам умирать. Нам видеть танец лун
В последний раз
В последний раз…
Нам мчаться по равнинам на восток,
Нахлестывая ветряных коней.
Нас не догнать! Мы – шёпот на краю
В последний раз
В последний раз…
Мы – шёпот
Шёпот на краю…
3.
Его ты ищешь?
Нет его…
О Хайне видеть сны,
Грустить над галькою
Нетленных городов,
Взрослеть, мужать,
Учиться расставаньям и
Потерям,
К руническим созвездьям
Уходя…
Стареем. Миги потеряли смысл.
Изорваны пустоты и стихии
Штыками световыми,
Но колокол ещё звонит
В открытых ранах грёз и расстояний…
ОРАНТА
(Распятье на Святки в России Последней)
Проходя сквозь фундамент морга Адам обратил внимание,
Что структура бетона разумна и находится в вечном движении
И бессмысленность существования точно так же терзает сознание
Жизнь проходит в тоске по Родине и в бессмысленном накоплении.
Кирилл РЫБЬЯКОВ «Тоска по Родине»
Вот так и издохнем
Под небом, под градом,
Во ржи раскалённой
России Последней…
Раскинуть бы руки
Да ангелом взвиться,
Но падаешь вечно –
Куда? Неизвестно...
К расстрелянным в полночь,
Распятым на Святки,
Тифозным баракам,
Да гильзам в ладони…
Дымятся винтовки,
Чернеют иконы,
Стучат пулемёты
В руинах, в руинах
(Там шалое небо
В огне сатанеет…
Но кто его видит,
Но кто его помнит
В Распятье на Святки?
Там шалое небо
Склонилось над хлевом,
Набухнув звездою…)
Да, так и издохнем,
Пока ещё «живы»,
Пока ещё «святы»,
Пока ещё «верим».
В то медное лето
Лишь мама бродила
По дымным кострищам,
По гарям сыновним…
Вот так мы любили,
Когда на рассвете
Наш город бомбили
И рвали на части,
Как хлеба краюху.
Тогда было горько
и падали птицы
и реки горели
и травы горчили
и вскрылись закаты
и веры крошились
и мир истончился
до рвани, до нитки.
Ходила Оранта,
По углям бродила,
Всё Сына искала.
И плакал я: «Мама!»
Зима трубит, зима трубит…
Зима трубит, зима трубит…
Зима трубит, зима трубит…
МУНДИР ГОСПОДЕНЬ
(Il Trionfo Di Bacco E Arianna)
Мундир Господень – красное на чёрном,
Рябины горсть на скошенном лугу.
Я стал беззлобным и покорным
На радость кровному Врагу.
Я стал таким, как Вы учили -
Размяк, обрюзг и стал седым.
Я – кровь и кости на точиле –
Издробленный в труху и дым.
Я прах Господнего Мундира –
Мертвец в утробе мертвецов.
Господь, даруй мне командира
И штык живых кинжальных Слов.
Как встарь рванусь назад, на лето,
В снега хлебов, ветров и роз…
Так всё пройдет, истает где-то
Во ржи, где ищет нас Христос.
***
Так всё пройдет. Чадит лампада.
Истает воск над пеклом горним,
Где рдеет в космах снегопада
Мундир Господень –
красное на чёрном.
Май 2005 г.
MA FOI EST MON COMBAT
Посвящается Илье Плеханову
Да, Капитан! Пылают перелески,
Отходят дни, прощающие смерть.
Архангел пишет кровью фрески
И разбивает криком твердь.
То наши дни... Колючие, другие,
С терновым привкусом свинца.
Истлела плоть, и мы, нагие,
Сгоревший воск свечи Отца.
И снова, снова плачут звезды,
Но КТО утрёт ТВОЮ слезу?
Мы спим, и снятся нам погосты,
И колос, зреющий в грозу...
Июнь 2005 г.
ГЛОТОК ШТЫКОВОГО НЕБА
Vagabondaggio
1.
Giuseppe Ungaretti
«VEGLIA»
Un'intera nottata
buttato vicino
a un compagno
massacrato
con la sua bocca
digrignata
volta al plenilunio
con la congestione
delle sue mani
penetrata
nel mio silenzio
ho scritto
lettere piene d'amore
non sono mai stato
tanto
attaccato alla vita.
Джузеппе Унгаретти
«БОДРСТВОВАНИЕ»
Всю ночь
прижатый
к мертвому
товарищу
с оскаленным
ртом
обращенным к полной луне
с кровью
на руках
проникшей
в мою тишину
я писал
письма полные любви
никогда я не был
так
связан с жизнью.
2.
Когда уйдут на запад батальоны,
В дыму истают светы фронтовые...
Когда в окопах стихнут часовые,
Глотни, товарищ, неба штыкового...
Усни, трубач! Сегодня не до крика!
Вдовеет ночь, убившая младенца
В колючей мгле, крадущейся полями.
Но, чу! Над нами - небо штыковое.
«И вот земля-старуха издыхала,
А в облаках орлы резвились...», -
Слова - труха. Мы - жажда. Знаю.
Молюсь о том под небом штыковым...
И если жажда станет хлебом,
Его ломтями - жадными, живыми -
Нарежь, раздай, не пожалей ни крошки,
И будешь свят под небом штыковым.
Усни, трубач! Над зяблыми лугами
Курлычут дни кудлатою ордою
И пропадают в омуте апрельском,
А после май - и всё опять по кругу.
Когда уйдут на запад батальоны,
Глотни, товарищ, неба штыкового...
Vagabondaggio – неприкаянность. Одна из ключевых тем в поэзии великолепного итальянского поэта XX века Джузеппе Унгаретти (Giuseppe Ungaretti).
Апрель - Май 2005 г.
АВГУСТ ИОАННА
Pontifex Solis. Жатва. Снопы
Воистину, ты приговорен стать поэтом-крестителем…
Рассмейся же теперь, на августа краю…
О, рассмейся, рассмейся же в час заветный час священный, когда те, Другие, идут тебе навстречу…
И ты окрестишь их…
(Вот Иордань Грааль чаша купина твоя…)
И если ты стоишь здесь, на августа краю, что что ЧТО видишь ты? Осмелишься ли узреть то, что уничтожает, словно лепра чумная язва гниение гниение гниение нищее собачье смердящее, разъедающие молчащую плоть чернозёмную сучью сучью земли земли? Это я… Ныне я Я задаю тебе вопрос… Я пашня твоя, а Ты – зерно моё…
Когда штыковая рожь складывается в кресты и начинает вращение кружение хлыстовское суфийское величаво медленно посолонь посолонь, пепельная вдовья, набухшая трупными жирными всходами колосьями, мать твоя мать-земля исторгает стон смертельного блаженства, ибо горячая, раскалённая от возбуждения сталь сталь вторгается в её теплую, влажную смертью смертью смертью вагину…
Я пашня твоя…
Ты – зерно.
День сегодняшний истаял, но Другие не пришли… задержались где-то далече далече… там, за синевою, где города горние отражаются в водах весенних…
О, где же, где же они? Когда придут жнецы и свалят рожь рожь и свяжут свяжут снопы… тугие снопы снопы снопы… похожие на скорбящих матерей, потерявших детей своих… схоронивших их в овраге весеннем… воды весенние омыли воды весенние прибрали и воды весенние унесли… кости кости кости…
Но кто утешит нас? Кто?
Где же они – те, Другие? Где?
Я пашня твоя
Ты – зерно…
И день сегодняшний истаял, всё плакал плакал рыдал свечкою церковною восковою…
Но…
Слышишь ли?
Кто
Там…
Там…
В небесах небеси… у Престола Господня? Трубит трубит и плачет плачет плачет…
Я пашня твоя
Ты – зерно…
Зерно…
Я Есмь Альфа и Омега…
Март 2005 г.
ПРАВДА СОШЬЕГО КРЕСТА
В сумерках мышиного ноября…
И вот кто-то поставил небрежно пластинку… Хрясть, хрясть, хрясть… Затряслось, задергалось, закружилось в танце круженье свистопляске бесовской (Знакомо ли сие тебе, о, юныш? Не правда ли, «очень» знакомо?)… Всё мишура да блеск Огоньки огоньки огоньки Звуки звуки звуки Крысы крысы крысы Писк писк писк Бзиц!!! Топ!!! О, Вы, кому я говорю ныне - дёргайтесь, пляшите, гремите, вопите вопите вопите захлёбывайтесь перед бурей громом в небеси… Топ-топ-топ… Бзиц!!!
Тот, кто грядёт, могильней беспощадней немилосердней зимней Полуночи Полуночи Полуночи за окончанием Вечности Бессмертия!!!
Ныне кто-то тряс меня за плечо и всё спрашивал: «Где серп твой? Готов ли ты или сон дрёма твоя бесконечна и скучна?»
Но что, что мог ответить я, когда липкая грязь мартовского зыбкого талого безумия забила рот мне, а глаза приучились к обманчивым сумеркам мышиного ноября?
Где серп мой? Ныне жатвы начало…
Где серп мой? О, буря, буря…
Где серп мой? Громы грохочут бьют в барабаны на полях плацах небесных…
Где серп мой? Ныне ведаю верую в Правду Сошьего Креста
И Ангелы Лебедекрылы Зерна Нового нисходят по ступеням Собора Нездешнего…
Вот Царствие Моё, коему нет предела…
Вот Престол, достойный Государя Владетеля Незримого Желанного Святого Грядущего…
Кто-то тряс меня за плечо и всё спрашивал: «Что видишь ты? Ныне отверзлись глаза твои… Прозрел ты, глупый глупый юныш!»
Я слышал вслушивался до глухоты в колокола над горизонтами лимесами дымными
И всё плакал рыдал в закаты яблочные Авалонские
Я видел зрил рассветы невиданные и солнца юные новорожденные выжигали безпощадно глину плоть пыль ветхую, дряхлую, дряблую, корявую, старческую, лживую, скулящую, собачью…
Я видел зрил ряды железные, долгие и штандарты, штандарты пурпурные кровяные высокие византийские подпирающие край миров цитаделей обителей млечнооблачных…
Я долго (казалось, что всю вечность вечность) бродил ходил скитался по улицам и плацам, где властвовала царила весна и стонали плавились льды Гадеса…
Я видел зрил, как Солнцежар Огневей Дух Пламенный одолел Сумрак Ночемрак Погибельный…
В День Зерна Нового
Я был Серпом
Я был Копьём
Я был Чашей
Я был Розой
Я был Крестом
Я был Солнцем Непобедимым Победным Торжествующим Царским
…и вот идёт Тот, Кто Пробудил Меня…
…и сноп сноп жатвы новой предвечной в руках тёплых хлебных его…
Царствие Мое…
Царствие Новое…
Март 2005 г.
***
В те дни среди руин бродили
И прах был плотью нашей осиянной...
(А Рим трубил и ангелы пылали…)
Но тот, кто снова шёл пред нами,
Поучал:
«Отныне голос твой
Не будет бронзоветь
И тишина
Заглушит лай ваяющих ветров.
И ты молчи,
Покуда
Голос твой не станет тишиной.
Воистину, молчи!»
Так говорил он
И молчать
Учились мы над стигмою небесной
(А Рим трубил и ангелы пылали –
времён рогожных рвалась череда
И кто-то плакал в духоте чулана…
Молчи…
Воистину, молчи!).
И мы молчали…
И молчал
Наш Святый Бог
С ухмылкою безумца…
А Рим трубил и ангелы пылали…
Апрель – Май 2005 г.
МОЛОТ-КРЕСТ
(Огонь Иного Рождества)
Когда крестились горизонты
В Огне Иного Рождества,
На умирающих страницах
Иными чудились Слова.
И стало страшно и крылато
Внутри и вне нездешних мест,
Где кто-то с ликом осиянным
Чертил в молчанье Молот-Крест.
Там было странно и покойно,
И пели ангелы окрест,
Чьи свечи царственно сияли
Над сводом проданных небес.
Свершилось! Ныне узнаётся
Однажды запрещённый жест
Того, чьи руки вышивают
Кровавой нитью Молот-Крест.
Ноябрь 2006 г.
РУСЬ-S.P.Q.R.
(опыты опричной онейрократии: опыт I)
И В БРОНЗЕ ВЫСВЕТИТЬ НЕЗРИМЫЙ СЛЕД
Да! Долгая охота
И глубок мой голод, когда я вижу, как они прячутся,
И вспыхивают там, где стволы расступились.
Эзра ПАУНД
И меня устрашает зима, потому что зима - это время комфорта.
Артюр РЕМБО
И в бронзе высветить незримый след
Его стопы, что в темени сияла
Светильником взыскующей души –
Там утра искры угасали
И чаша туч сочилась тленом –
Там призраки предзимние трубили.
О, если б слышал ты их глас,
Их плач дождливо-сиротливый,
Что плыл над стылою слюдой,
Носился зюйдом погребальным
И умирал за горизонтом.
Земля свинцово коченела
И ядом снежным наполнялась,
Студёным гноем набухала,
Дабы в безумье видеть сны,
Молчать, мертветь и не проснуться.
Таков наш, Господи, удел –
Тлеть бронзой смерти на устах.
«Молчать, сгорая в звёздный прах,
Сорваться в дымчатую дряхлость
И тенью жалкою скитаться,
От света в сумерки сбежать,
Страшась предчувствия рассвета!
Внимай, покуда зреет день!
Внимай, покуда длится сон!
Внимай над Тартаром огня,
Где ждут тебя, где жгут тебя!», -
Так призраки предзимние трубили
И опадали жухлою листвою
В ладони ангелов скорбящих.
Таков наш, Господи, удел –
Тлеть бронзой смерти на устах.
Весна 2006 г.
МЕЧЕНОСЕЦ ОГНЕННЫЙ
(Шествующий Ныне)
And in the days, oh to come -
The sound of iron and the sound of drums
And in the days, oh to come -
The earth shall seethe and the clouds will bleed
And in the days, oh to come -
Will we be drowned in a sea of scum?
SOL INVICTUS “In Days To Come”
Посвящение православному философу Роману БЫЧКОВУ
1.
Буря, огненная царская буря, разрывающая глиняную плоть пустоты и заполняющая её бессмысленно-лживую овечью никчемность живительной амброзией, древним выдержанным вересковым хмелем, обжигающим исцарапанные глотки иссохших облезлых костяков, всё ещё бродящих по истощённой, больше не дающей плодов, земле! Буря, что простирает свои пурпурно-багровые, с аристократическими чёрно-золотистыми смальтами сусальных мазков, крыла-плащаницы над задыхающимися в вое тоски и одиночества песками тяжкими, пекельными, ибо в аду перестали кривляться и хохотать, ибо в аду тают сугробы свинцовые, ибо в аду грянула весна нездешняя и распустились бутоны невиданных прежде цветов! Буря, буря, буря, кого ты утаила в родящем материнском чреве своём, где клокочут, содрогаются, неистовствуют в танце вихри-знаменосцы и леденяще бьют барабаны небесные? Что лицезришь ты там, вдали, в сочащемся лихорадочной болотной слизью, блудливом флоридском Карфагене, откуда наползает, хитро змеится, похотливая, изголодавшаяся тьма, чьи ублюдочные порождения, нахлобучившие на себя бездарно раскрашенные языческие личины, оскалили блестящие клыки, изготовившись к решающему броску? Ибо ныне настало то опьяняющее Время Откровения, когда Меченосцы Огненные, Дворяне Божьи, Отроки Солнечные, покинувшие строгие монастырские камни узилищ и тесные коридоры бункеров, служат Великую Литургию Гнева и Отмщения! И лики их торжественно сияют, а разомкнутые уста жарко и жадно шепчут новые исцеляющие молитвы!
И разверстые зевы язв – червоточины-парадизы – затягиваются, безобразные бугры рубцов разглаживаются, становясь просторными долинами, и молодое, терпкое, вяжущее язык, густое вино, с коим ничто не может сравниться, Вино Причастия Невечернего, наполняет истомившиеся от нестерпимой жажды сосуды человеческие.
Ибо таково Начало!
Подай, Господи!
2.
И ныне будешь шествовать ты по вздыбленным пашням мечей, чьи острые побеги-лезвия ранят в кровь не только беззащитные нагие стопы твои, но и душу – твою бессмертную, дарованную Всемилостивым и Всеблагим Всевышним, младенческую душу! И тогда Солнце, что однажды вспыхнет над прокажёнными погостами Запада яростно-багровым радиоактивным шаром, ощетинившимся растрепанными щупальцами протуберанцев, немилосердно обожжёт кожу твою, и она почернеет, обуглится и обратится в жёсткую, шершавую на ощупь, каменную корку, сочащуюся вязким желтоватым гноем и сукровицей. И крик твой грохнет колоколом соборным, отлитым из драгоценного металла облачного, над опалённой скорлупой некогда шумных и греховных городов – отныне безгласных, тихих, покойных, где даже тени жалки, горестны, пугливы и покорны. Тебе бродить по уходящим в никуда критским лабиринтам улиц его. Тебе всматриваться в немые глазницы неживых насельников его, кои молчат вечно. Тебе искать ответ в опустевших коробах домов его, ощерившихся иглами оплавленной арматуры и раскрошенными зубами бетонных балок и перекрытий. Помнишь ли, как ушёл ты из света неонового в далёкую тишину, где были только мерзостный промозглый октябрьский дождичек, сырой пластилиновый асфальт, безъязыкие трупы-витрины и приютское осеннее безлюдье, будто вот-вот на горизонте должна была полыхнуть Сверхновая финального ядерного удара? Тебе прислушиваться к сиротливому собачьему вою ветров, что несутся куда-то прочь, за океанский инфернальный сумрак - оттуда приходят странные и ужасающие сновидения, чьи зрачки зловеще светятся. И вот ты вопрошаешь их: «Доколе, доколе, доколе будет продолжаться бархатное безумие ночи, и сморщенные старухи-гарпии будут ликующе пожирать свою законную (ибо им причитается) добычу, а в нетопленных избах Мертвополиса отпевать положенных в гробы-домовины, дабы под утро (но кто знает, когда оно настанет?) они воскресали и вечером снова отходили?». Но в ответ лишь хохот и свист. Но в ответ лишь стенания и визг. И уносятся ветры, пропадают в холодных чужих глубинах и издыхают во мраке фиолетовом донном.
Но чья-то десница боговдохновенно выписывает в храмовой васильковой вышине Огнелик неведомого ещё Святого, что взирает на мiр сей очами грозовыми, меченосными, ненавидящими. Ибо пора всеобщей Любви истекла, траурной грязевой сметаной сделалась. Ибо ныне кроткие причащаются Словом и Мечом, дабы обрести крепость необоримую и истину Креста Духа Святого! Ибо ныне настало то опьяняющее Время Откровения, когда Меченосцы Огненные, Дворяне Божьи, Отроки Солнечные, покинувшие строгие монастырские камни узилищ и тесные коридоры бункеров, служат Великую Литургию Гнева и Отмщения! И лики их торжественно сияют, а разомкнутые уста жарко и жадно шепчут новые исцеляющие молитвы!
Ибо таково Начало!
Подай, Господи!
3.
И ныне соборы иные - небывалые и нетленные - возносят ввысь белые пречистые стены, пронзая княжьими шапками куполов мелёные домотканые холстины облаков. А над ними невидимый кто-то неосторожно расплескал ослепительную цареградскую позолоту и чуть-чуть прибавил северной восхитительной поморской лазури. И Святые благословляют тебя перстами янтарными, тонкими, детскими, в коих заключена вся мудрость и красота мiра грядущего, пришедшего на смену заточению, тлению и страданию, ибо зима, извиваясь в звериных корчах мартовской агонии, наконец-то околела псиной оголодавшей, кликушей причитающей отошла, канула. И благовест весенний, апрельский, духмяный, разомлевший, пахнущий сдобой свежих куличей, разносится над пожарищами и проливается тёплым материнским молоком на пепельную степную горечь. И вот Меч мой, Господи, коим возвращал я Слово Живое роду неразумному, бесноватому, уже не помнящему Имя твое! Благослови его, Всемилостивый Боже, ибо покинул он ножны, дабы уже никогда не вернуться обратно! Благослови его, ибо ныне я навечно стану на страже Царствия Твоего Третьего, пламенеющего в заревых небесах!
И вот необъятная рожь огня неугасимого пред стенами картонными нашими, кои стекленеют от жара нестерпимого и осыпаются стружкою трухлявою. И вопли, вопли, вопли и рыдания раздирают в клочья горящее тряпьё оглохшего эфира. И молят, голосят, исходят водами слёзными и потоками кровавыми они: «За что, Господи? Помилуй!». Но лишь карающее безмолвие Высшего Судии изливается на Мертвополис, растекается по сточным канавам улочек его, скапливается в смрадные тепловатые лужи на булыжных мостовых и истоптанном асфальте площадей, ядовито светится на экранах мониторов и рекламных щитах…
Ибо ныне настало то опьяняющее Время Откровения, когда Меченосцы Огненные, Дворяне Божьи, Отроки Солнечные, покинувшие строгие монастырские камни узилищ и тесные коридоры бункеров, служат Великую Литургию Гнева и Отмщения! И лики их торжественно сияют, а разомкнутые уста жарко и жадно шепчут новые исцеляющие молитвы!
И вот я, Господи, Божий Дворянин твой, в рубище грубом, нищем, вервью подпоясанном, ибо ничего нет у меня, кроме Слова и Меча. В огонь иду, Господи! В рожь твою огненную…
Ибо таково Начало!
Подай, Господи!
Май 2006 г.
ТРЕТЬЯ РЕКОНКИСТА
(Меч и Слово)
Admirable, et l'aile terrible...
***
И дивные, и страшные крыла
На нас, безумствующих, пали…
И снежно стало. Лишь мела
Метель, убогая в печали.
В часовнях вышних тишина
Нас, отошедших, отмолила...
Тиха пречистая страна,
Где Солнце всходит из могилы.
Декабрь 2005 г., Sol Invictus
***
По розам чёрным Третьего Завета
Веди меня за пламенный предел!
Ржавеет охрой рыжая комета
Там, где закат сгоревший тлел,
И изгнивали звёзды лета.
Мертвел росой звериный край…
В вечерней копоти тумана,
Где умирал пернатый грай,
Сочилась кровью солнца рана –
В ней грезился весенний рай…
Мечом нас окрестил Господь,
По водам огненным шагая...
И Духом наполнялась плоть –
Стальная, юная, нагая –
Чтоб небо криком расколоть…
Февраль 2006 г., перед началом Великого Поста
***
Под землей лицо твоё, над бездною,
Сербия, страна моя небесная.
Петар ПАИЧ
Опричному Брату И.П.
Мой брат, быть может, будем живы
На перевале, под огнём.
Отходит мiр наш тошно-вшивый,
Крещёный пулей и крестом.
Восстанем огненной стеною -
За рядом ряд, за рядом ряд.
Я верю – Бог нас не оставит -
Небесной Сербии Солдат!
Boze Pravde Ti Sto Spasi...
Октябрь 2005 г.
И НЫНЕ СОДРОГНУТСЯ ОКЕАНЫ!
Des f?tes ne pas se cacher, ne pas se cacher …
DEATH IN JUNE “Rose Clouds of Holocaust”
От праздничков не спрятаться, не скрыться…
Так сумрак дышит
В паточных снегах
Слащавой, жжёною отравой…
Чем пахнет ныне?
Немотой,
Бессонницей в расстрелянных бараках,
Костьми в отвалах,
Кровью на штыках
И Смертью на засаленных страницах.
Как розов ад!
Как сахарно, нелепо и смешно
Лгать небесам,
Чего-то выжидая,
Неистово молиться поутру,
К сусальным идолам взывая,
Когда уж тьма –
Ни звёзд, ни крика!
Как розов ад!
И грешники блажат:
«Хмельнее лжи нет правды на земле!
И ныне содрогнутся океаны!
Вперёд, вперёд по глади вод!
Скорее в рай,
Где плавится свинец!».
Так празднуйте,
Покуда вороньё
На римских папертях пирует,
И в Загребе ликуют и рыдают!
Так празднуйте!
В разгаре торжества
Господь наш снова был распят!
«Распни!», - ревела потная толпа!
«Распни!», - крестились важно иереи!
«Распни!», - бледнело эхо вдалеке…
Поднимем тост! Забудем и споём!
О том не ведаем! Блаженны мы и пьяны!
И ахнем напоследок: «Аллилуйя!»
Авось зачтётся…
Лишь Богородица скорбела
В пыли сиднейской.
Следом грянул гром…
Дохнуло гарью…
От праздничков не спрятаться, не скрыться…
Май 2006 г.
***
With your Hair of Flaming Roses
Your Kiss, Medusa's Touch...
DEATH IN JUNE “Runes and Men”
Медузы ветреной лукавый взгляд
На дне бокала медно кровенеет.
Метели жгут наш ватный ад…
Когда мой труп закоченеет,
Я выпью терпкий рунный яд.
В июньский тихий снегопад
Пройдусь по улочкам знакомым,
Где звёзды вдруг заговорят
На языке священно новом
И камни Словом промолчат.
Как леденеет ныне прах
На дне сиреневом бокала!
Господь, мы снег в твоих очах
И колос хлебного Начала,
Что золотится в небесах!
Май 2006 г.
ПЛАНЕТА РУСЬ: ЗНАМЕНОСЕЦ
В арке появилась худая, тощая фигура, нырнувшая в голодный зев подъезда ближайшей пятиэтажки. Фигура даже не человека, а нечто, напоминающее крысу с помойки – такая же юркая, стремящаяся выжить любыми доступными способами. Вдали, за тесными клетушками дворов, что-то гулко громыхнуло и отозвалось раскатами, отчего зазвенели стёкла в слепых оконцах, чьи обитатели наверняка сидят себе на полу, укутавшись в одеяла, свитера, кофты и заморские пуховики, чтобы хоть как-то согреться в тесных нетопленных квартирках, и едва слышно (а если кто услышит и стрельнёт «для профилактики»?) переговариваются либо просто молчат. Финал осени. Ноябрь. Рано смеркается. Без пятнадцати пять. Скоро пойдёт снег, хотя утром вовсю брызгал мелкий дождичек и было тепло, но синоптики оптимистически обещали похолодание и вторжение зимнего фронта. По улицам идут БТР-ы и топают армейские сапоги. На центральной городской площади, под безобразным памятником, лежат плотные продолговатые мешки. Много мешков. Под мешками растекаются густые вишнёво-чёрные лужицы, перемешивающиеся с грязью и мусором. Тут же расхаживают автоматчики, дымя плохими сигаретами и смачно сплёвывая на асфальт, а в открытой кабине постового «пирожка» трещит, раскалившись от мата, рация. Иногда блёклый застоявшийся воздух, насыщенный сладковатой гарью жжёной резины и ещё чего-то противно-тошнотворного, разбавленного кисловато-горькими запахами просроченных лекарств, разрывают свистящие лезвия-лопасти стремительно проносящихся неведомо куда «вертушек», ощетинившихся пулемётными иглами и вязанками ракет.
-А знамя то наше я сохранил… Спрятал, когда на площадь пустили солдат, а потом… потом пошли танки, - выдыхает Знаменосец, распахивая старенькую замызганную куртку с неумело заштопанной суровыми нитками дырой на спине. Под ней действительно что-то белеется, напоминающее полотно.
-Сволочи, сволочи, сволочи… Скольких положили и всё-то мало им, - Знаменосец сжимает кулаки с разбитыми в кровь костяшками и заходится сухим простуженным кашлем. – Думают… думают, что танками всех нас передавят. Да не дождётесь! Хрен вам!
Потом закуривает. Курит долго и нервно, угрюмо уставившись в какую-то точку на облезлой штукатурке стены, к которой приткнулись переполненные пакетами мусорные баки и беспорядочная груда картонных ящиков.
-Ладно… Разбегаемся. Спасибо тебе, что не бросил… Держи-ка пять, - наконец выговаривает он, когда чернильно-фиолетовые сумерки окончательно сгущаются и окрестные дома, деревья, случайные голуби на карнизе, качели и песочница на детской площадке растворяются в них, сливаясь в бесформенную пластилиновую массу, лишённую цвета и объёма. За аркой кто-то быстро-быстро пробежал, споткнулся, упал, поднялся и снова побежал. Чихнув, заурчал мотор, и зашелестели шины. Порыв ветра предательски загремел смятой пивной банкой.
Всё. Сейчас Знаменосец уйдёт. Как-то не хочется отпускать его. Быть может, его пристрелит пьяный гогочущий солдафон, решивший развлечься стрельбой по случайным мишеням. Или, ослепив фарами, раздавит БТР, выехавший на ночное патрулирование. Или его поймают при облаве и швырнут в фильтрационный лагерь на стадионе, откуда возвращаются не все… Или…
-Знаешь, давно хотел сказать тебе… Я, это, не совсем… отсюда.
-Ну, понятно, что ты нездешний. Небось, приехал на нас посмотреть? – невесело усмехается он, приподнимая воротник куртки и поправляя нелепую вязаную шапочку на затылке.
-Нет, даже не из другого города. Времени… Понимаешь? НЕ ЭТОГО ВРЕМЕНИ.
-Здраааасьте! Вот так номер! Тоже мне… Алиса Селезнёва в поисках мелофона. Фантастики перечитал или что другое? Ты часом не того - не дурик или нарик? Да нет, непохоже, чтобы ты баловался всякой дрянью, – он крепко жмёт руку, пристально смотрит в глаза и, вдруг, совершенно серьёзно, говорит на прощание. – Впрочем… Впрочем, если ты и вправду… не отсюда… передай вашим, что знамя я сохранил и умру за него. Умру, но спасу! Ну, всё, фантазёр, бывай и береги себя!
Чтобы добраться до гаражей на окраине, пришлось отдать оставшиеся сотенные бумажки водителю легковушки, знавшему, по его клятвенным заверениям, объездные пути. Пара часов плутания по необитаемым дворам, ещё немного по разбитой грунтовой, усеянной глубокими лужами и выбоинами, дороге рядом с заброшенной железнодорожной веткой, заросшей рыжим сосняком, и вот тебе двухэтажный павильон автосервиса, где, к удивлению, горело тусклое желтоватое освещение, и даже звучала лёгкая попса - «Умц! Умц! Умц!». Над городом расплывалось маслянистое пунцово-оранжевое зарево. Резко хлопали и затихали далёкие разрывы. Кажется всё - конец… На шоссе было пусто и дико, ветер гудел в фонарных проводах и раскачивал простреленный светофор. Лишь в девятиэтажках за покосившейся автобусной остановкой светилась горсточка чересчур смелых огоньков на общем унылом фоне, когда даже собаки не смели лаять.
В холодном гараже электричества тоже не было – выключатель вхолостую щёлкнул туда-сюда и замер в неопределённом положении. Нырок под видавший виды, наполовину разобранный, «Жигулёнок», в канаву ремонтной ямы, заваленной непонятными железками, досками, обломками палок и протухшим тряпьём, визгливый скрип сварной дверцы, ведущей в мастерскую, осторожный спуск по приставной лесенке вниз, прямо на мешки с картошкой, прыжок в яму погреба, а оттуда - в чистую и уютную, такую невозможную здесь, но, таки, реальную, камеру хроно-перехода. Отправление остатней партии кассет-отчётов для Генерального Мнемо-Архива, тщательная настройка навигационной панели и корректирование точки «времени-пространства» для себя и последующих миссий, двадцатисекундная подготовка к прыжку, плавный запуск и…
…Белый, слепящий девственно-чистый белый свет, поглощающий плотную, осязаемую, враждебную темноту, сочащуюся из сырого кирпича стен и трещин в бетонных полах загаженных коридоров… Затянувшееся падение в сердцевину бушующего снежного циклона…
Начальная фаза Общего Отчёта закончилась ближе к рассвету, по прошествии нескольких часов после Прибытия и ускоренной Адаптации. Остаться ночевать здесь же в офисе, разложив кресло, и заказать горячий завтрак со свежими гренками и кофе? Здоровый бодрый сон не помешал бы. Но нет, спать не хочется, а, напротив, неудержимо тянет на улицу, в ароматную весеннюю прохладу ранней апрельской ночи, когда буквально вчера, всего за какие-то считанные дни, исчезли сугробы, а на проснувшихся деревьях начали раскрываться тугие клейкие почки.
На вахте знакомый охранник, оторвавшись от разноцветной голографической клавиатуры, широко, по дружески, улыбнулся и продемонстрировал большой палец:
-Ага, вот кого я долго не видел… На этот то раз сколько?
-Полтора года…Впрочем, всё как всегда – работа, работа и ещё раз работа. Устал…
-И что, получилось? – полюбопытствовал он, запуская по обыкновению сканер-идентификатор и распахивая двери наружу.
-Да, получилось… Вернее, получится. Должно получиться!
В аллее ничего не переменилось. Разве что заново выкрасили скамейки (причём, что интересно, по старинке, без услуг хозяйственных автоматов!) и расширили пруд, достроив на крохотном искусственном островке стройную деревянную часовенку. Апрель! Какая благодать! Ветерок мягкий, но ещё не до конца тёплый, с нежным зябким холодком, проникающим за шиворот и в рукава.
«А знамя то Знаменосец спас! Как есть спас! Иначе и не могло быть. Удалось ли ему самому спастись, уцелел он или погиб? Тогда ведь и эпоха была такая… вязкая, предательская, ненавистная, переломная, стоившая большой крови, мук и страданий… Наверное, именно поэтому она особенно привлекает нас, ибо учит… Да, так! Учит быть теми, кто мы есть на самом деле – людьми и богами, покорившими не только пространство и время, но и сохранившими живительную искру Божью – Душу свою… Разве не об этом я говорил с людьми той эпохи? До кого-то достучался, а до кого и нет... Но знамя они сберегли! Значит, хоть какая-то надежда есть…», - мысли, спутанные в хаотичный беспокойный клубок, не давали покоя, воскрешая чьи-то образы, лица и ситуации, увиденные и пережитые, как будто, ещё сегодня или даже вчера – в действительности многие века назад. Крупные спелые бледно-зелёные звёзды мерцали на горизонте, задевая замысловатые шпили, ступенчатые многоярусные башни-соты, транспортные магистрали, спиральные галереи, взлётно-посадочные площадки, ангары, жилые кварталы и зелёные островки-зоны мегаполиса-метрополии, залитого огнями. Его величественная дрожь достигала даже куполов Институтского Комплекса. Пешеходная дорожка под ногами едва ощутимо вибрировала. В Воскресенском Соборе Второго Пришествия, закутанном в серебристую пелену облаков, звонко ударил первый колокол. И тотчас же отозвались звонари Святоархангельской Церкви Во Имя Новых Мучеников и Церкви Свершившегося Откровения.
«Да, рассвет. И здесь он точно такой же, что и там, особенно если встречать его за городом, на берегу реки или в поле… И Знаменосец его увидел, пережив ту ночь», - очень хотелось верить, что Знаменосец жив. Впрочем, жив он был только в памяти, да ещё в файлах отчётов – знамя под поношенной курткой и напряжённое, серое лицо, осунувшееся от бессонницы. Заинтересует ли его судьба Совет Кураторов? Кто знает…
А звёзды медленно, совсем как кристаллики инея на раскрытой ладони, таяли, когда вдруг кто-то невидимый зажёг исполинскую свечу – острый язык пламени разгорался всё сильнее и жарче, вздымаясь всё выше и выше, пока окончательно не растворился в утренней небесной прозрачности, оставив после себя золотистое свечение, пролившееся дождём из мириад сверкающих искр.
«Почти ведь позабыл, как стартует Ковчег. Красотища! Куда он направился? В Дальнюю Ариану, в колонии на Трубчевском Рубеже или даже на Авалон? Как далеко мы шагнули и продолжаем шагать, не зная передышки – только бы успеть, только бы оставить добрый след свой… постепенно, шажочек за шажочком - и вот мы уже здесь, на чужой, когда-то негостеприимной земле, ставшей нашим домом, вдали от родимой колыбели, подарившей нам жизнь. Сколько отсюда до неё – десятки световых лет? Вечность… целая вечность…».
Вот и последняя звёздочка чуть задержалась на небосклоне, померкла и пропала. Колокола продолжали звонить, предвещая неукротимый и яростный разлив восхода.
Над Планетой Русь вставало Солнце – ясное, юное и непобедимое…
И КАМНИ СЛОВОМ ПРОМОЛЧАТ...
КШАТРИЯ
Посвящение трибуну Православной Опричной Революции против «мiра сего»,
великолепному консервативно-революционному поэту Сергею ЯШИНУ
И очевидцы времени иного
На пыльных стенах жухли там и сям
Томас ЭЛИОТ
The sun is setting in the west...
Ныне…
Из варварской мглы ты приходишь
Бронзовым зверем с взором нездешним.
В космах Борея орлиным распятьем
Кружишь над птичье-седыми морями
И заклинаешь свирепые тени,
Дабы воскреснуть в расплаве зенита
Огненнодухом солнечнокрылым
И возвратиться сияющей бурей.
Волны источат подножия башен
И унесут на восход колесницы.
Ныне…
На Западе вдовьи зарницы
Полнятся тяжкою винною кровью,
Чахнут дождями и мёртвой листвою.
Кажется, жжёною пахнет корицей
И ароматом горчащего «Мокко» -
Пыточной смертью отхожей кафешки.
Ныне, когда истончается время,
Кто-то прилежно читает страницы,
Силясь познать геометрию циклов
И психологию радужных моргов,
Жадно смакуя бренчащие фразы.
Только вода из разбухшего чрева
Льётся в провал картонажного трупа,
Где кто-то клянчит Нового Хлеба.
Боги в приютских мiрах угасают -
Скука застигла их в самом расцвете
Под одеяльцами в мокрых кроватках.
Тихо. Ночник догорел без остатка.
Как-то банально и слишком нелепо
Дремлют сиделки в пустых коридорах,
Словно служанки на смутных полотнах –
Фартучки, локоны, глупые взгляды,
Чепчики, ленты и ватные руки.
Им невдомёк, что постылые стены
Рушат упрямые всадники-волны!
Волны источат подножия башен
И унесут на восход колесницы.
Июнь 2006 г.
ЯНВАРСКИЙ СОНЕТ
(Вербные Века)
Январь хоронит плеши городов.
Но Цезарь близко. Вербные века
Грядут проклятьем немоты
В экстазе рвущихся знамён.
В час ночи догорает хром.
По мостовым, чеканя шаг,
Грохочет ртутная река
Когорт восставших светляков.
Им отходную серебро
Валторн небесных пропоёт,
А вскоре танковая рать
Зверино рыкнет на заре
И устремится на Восток.
На пальцах стынет солнца кровь –
Живая, юная, святая…
И утром верба расцвела…
Июнь 2006 г.
КШАТРИЯ (трилистник: Christus Venit!)
Current Muzak: KREUZWEG OST “Die Legion”
I
Иридиевая тяжесть плит фронтовых плацев омыта благодатным утренним ливнем, растворившим без остатка смрадный жир чьих-то вязких обманов и фальшиво-жеманных похотей.
Ибо в садах вышних, где цветут ослепительным молочным цветом душистые майские яблони и в венецианском бархате ночи заливаются ноктюрнами соловьи, Господь-Вседержитель ударил в барабан, чья раскатистая маршевая дробь, подобная внезапному и освежающему летнему грому, сотрясла напыщенные хрустальные вершины рукотворных башен, кои упираются в облачную серную слякоть, порой проливающуюся обжигающей кислотой на пластилиновые луга.
На неповоротливом распухшем обрубке языка (ибо к чему мертвоживущим дар речи, когда гортань заполнена прахом могильным?) – кондитерско-резиновый привкус операционного наркоза, предвещающий позорное низвержение в сальную земляную топь, выдыхающую наружу тошнотворный смрад вересковой плесени.
О, облитый цианидной глазурью шоколадный делириум, когда лоскутным страстям приходит логически-безжалостный конец, а за ним следует незамедлительный расстрел!
А что ещё нужно мягко глупеющей тряпичной кукле с уморительными разноцветными пуговками вместо зрачков?
Жестяная коробочка из-под монпансье вместо домовины гроба и «достойные» похороны, щедро оплаченные шуршанием фантиков за счёт конфетного правительства, под издевательское нестройное пение и кривляния собратьев-паяцев из «всемiрной труппы» идиотов-сказочников (ибо сказано: «Бойтесь их радостных бубенцов!»).
И когда раскалённый ланцет молнии картинно пропорет брюхо туши небесной и из зияющей дыры хлынет клокочущая медная вода, писклявые голосочки, сбившиеся в кучку, неумело, уродуя слова и смыслы, запоют, загнусавят, затянут: “Christus Venit!”.
И тощие ножонки, облачённые в безразмерные стоптанные башмаки, будут тонуть в жидком глиняном дерьме, а хилые ручонки с грязными изгрызенными ноготками кому-то важно и серьёзно грозить.
Шарманка игрушечно застонет, заскрипит, зазвякает, и выдаст некое подобие звуков, отдалённо напоминающих вскрик гибнущих в пожарах колыбелей в “Gloria” Вивальди.
Так кого же отпевают ныне?
К чему столь скрупулезно отрепетированное зрелище?
Накануне какой пасхалии сие произошло?
II
Лабарум! Где фаланги твои воскресают из падали распада земного и облачаются в невечернюю роскошь пурпура цезарей римских – ибо влажная от вожделения пашня ныне ожидает Посева Нового!
Лабарум! Где в День Трубного Зова огнежар небесный докрасна раскаляет гулкую субстанцию эфира и палит липкие пластилиновые луга, оставляя после себя безобразные гниющие струпья – ибо эхо колокола пепельного молчания есть начало Жизни Новой, Жизни Вечной!
Лабарум! Где ржаной духмяный каравай насытит всех призванных и верных – ибо пекарь испёк добрые хлебы и извлёк их из огнедышащего Аида печи!
Лабарум! Где студёная родниковая вода утолит, наконец, безконечную жажду нашу – ибо вешние ливни долго рыдали в продрогшей ночи вселенской и были слёзы их прянее и терпче самого выдержанного настоя!
Лабарум! Где в литейных формах вызрело зерно металла – ибо Спас Солнечный, Господь Мечегромный, Пастырь Гневный, Всесудия Человеческий – искусный литейщик, коему ведомы образы невиданные, ибо быть им до скончания времён на страже Царствия Небесного!
Лабарум! Где тягуче-кислый сок ягод винных перебродил в вино новое, причастное – ибо Виночерпию ведом тот рассветный час, когда должно наполнить чаши!
Лабарум! Где Выси Новые…
III
И в Дионисиевы Дни
Листать спалённые страницы
Житий, писаний и псалмов,
Тщась непременно разгадать
Витиеватость ветхих Слов,
Чья очевидна простота.
В степях ордынских суховей
Скребёт курганную траву,
За космы треплет ковыли,
И гонит бури на закат –
К границам кукольных империй,
Чьи повелители смешны
В бумажно-пышной мишуре.
Таков непреходящий фарс –
Увы, счастливые мертвы
И обретаются в гробницах,
Где неизменен парадиз.
Но темень, Господи, окрест!
Ни звёзд, ни окрика, ни всхлипа -
Всё так же ласковы штыки
И изверги благоухают.
В кромешных яровых снегах
Хоругвь восходит с Ликом Грозным,
Сзывая проданных бойцов…
Июль 2006 г.
ОРТОДОКСИЯ ОСЕННЕГО ЛЬДА
(Cantar De Procella)*
“Оживут ли кости сии? оживут ли
Кости сии?”
Томас ЭЛИОТ
И вот когда израненные камни
Открыли мне иные письмена,
Я созерцал рождение небес
В пустынях гибнущего храма,
Где вёсны ликами страшны,
А зимы кремово-слащавы,
Чьи боги плавят карамель…
Вот так всегда –
Хандра, зевота,
Всё те же кислые слова
Под кожей типографских трупов,
Чьё поголовье велико
И даже более – трагично
Для коченеющей воды...
Увы, когда Господь Всесильный
Творил осенние костры
И жёг листву
Усердно, терпеливо,
Дабы по пеплу Вечность прочитать,
Я не заметил, как нагнал огонь,
И вспыхнул хилым мотыльком,
Опав горелою бумагой
На чей-то
Полуночный стол…
*Cantar De Procella – Песни Бури.
EUROPA CALLING
(Факельный Январь)
А я молчу. И камни те же, те же
Как в январе, когда за шагом шаг
Здесь проходили мятные полки
Навстречу восхитительному тлену…
Се истина! Ведь ныне очевиден
Финал, похожий на фокстрот -
Танцульку на краю погоста,
На копнах скошенных венков…
Рыдай же, факельный январь,
Исповедальными огнями
И кладки мёрзлые круши,
Пока на небе - перезвоны
(за звоном - прах, за прахом - темь),
А где-то здесь ещё поют,
Хоть в блиндажах дворняжий полдень
Ещё не начатой Войны…
А я молчу. И камни те же, те же…
Октябрь 2006 г.
И КАМНИ ТЕ ЖЕ, ТЕ ЖЕ…
СИМФОНИИ БУРГЛЯНДИИ
СИМФОНИЯ БУРГЛЯНДИИ
Авентюра Первая: Архипелаг
Посвящение Эрнсту Юнгеру
Ноябрь начался с промозглого ветра, налетевшего на Дом Кайзера из смятенных далей взлохмаченного моря, свинцово гудевшего под низкими сводами кудлатых седых туч – вестников предстоящей литургии великого зимнего безмолвия. Утром выпал снег, однако ближе к полудню он стаял, оставив после себя лишь призрачно-молочный пар, впитавшийся в хвойное молчание готических сосен парка Рудольфа.
Это была моя третья осень в Бургляндии, близившаяся к своему неизбежному концу, когда зима окончательно вступала в свои незыблемые права. И в этот раз осень умирала.
Три года назад я стал кадетом, приняв присягу тоскливым ветреным вечером на аппельплаце, мокром от ливня, нещадно обрушившегося на точёные башенки, лестницы и крытые галереи Дома Кайзера. Здесь, в Бургляндии, мне открылись многие вещи. Познав их, я увидел звезду Гелиополиса и стал тем, кем должен был стать. Все девять старинных Домов Бургляндии стали моей плотью, кровью и душой. Я научился слышать и слушать, в чём убедился позже, когда шептал слова мессы Солнца Непобедимого в торжественной тиши базилик Гелиополиса.
В редкое свободное время я и крепыш Рюдигер, единственный приятель, понимавший меня едва ли не с полуслова, бродили по песчаным дюнам, чьё пустынное однообразие живописно разбавлялось спутанными прядями пожухшей травы, невысоким корявым кустарником с реденькой листвой и рыжевато-бурой сосной. Рюдигер любил море, ленивое шуршание его неторопливых волн и кавалькады растрёпанных облаков, мчавшихся на раскаленный юг. Мы разводили костёр из белесого от соли плавника и жарили ломтики хлеба, насаженные на прутики. Слегка подгоревшая ржаная корка аппетитно пахла дымком, отчего во рту тут же образовывалась голодная слюна. Рюдигер посмеивался: «Ты так и не научился правильно жарить хлеб. Тут тоже нужно своё умение. Так то вот». Я охотно признавал свой промах, отвечал шуткой и, прихватив наши фляжки, уходил к роднику. Рюдигер оставался у костра. По возвращении мы с жадностью ели хлеб, обильно посыпая его желтой крупчатой солью и запивая студёной ледяной водой, сводившей скулы и отдававшейся микроскопическими иголочками боли в зубах. Обратно идти не хотелось. В дюнах было покойно. Ничто не напоминало о неприютных громадах казарм и скучном камне плацев, разбитом бесчисленными сапогами кадетов. Мы смотрели на волны, набегавшие одна за другой на топкий прибрежный песок, где оставались длинные пенные следы. Они шелестели о чём-то своем, потаённом, недоступном нам. Быть может об островах. Островах Архипелага.
Где-то в середине Осеннего Поста, когда раскатистая пустота комнат и бесконечных коридоров-лабиринтов Дома Кайзера заполнилась мутью пресной дремы, свойственной разве что этому времени года, Рюдигер задумчиво обмолвился об островах Архипелага, чей силуэт был иногда виден в ясную погоду.
-Знаешь, в последнее время я почему-то постоянно думаю об островах Архипелага. Как наваждение какое-то... Сон! Всё плывешь и плывешь куда-то и даже не знаешь, что тебя ожидает в конце. Жизнь. Смерть. Всё одно… Когда настанет наш час – ты сам поймешь это - мы отправимся к островам, чтобы увидеть звезду Гелиополиса. Те, кто побывал там, говорят, что она хорошо видна с самого дальнего острова. Ты веришь в это?
Я ничего не ответил. Слова здесь были ни к чему. Ибо я верил в звезду, в её пронизывающий бледно-сиреневый свет, дарующий бессмертие богов. Я хотел раствориться в нём. Навеки. Навсегда. Безвозвратно. Это была моя тайная Вера. Я и моя Вера.
Все остальные дни я проводил в библиотеке Дома Кайзера, где подолгу ворошил груды ветхих фолиантов, крайне осторожно разворачивая слипшиеся страницы, и рассматривал роскошные запыленные атласы с искусно вычерченными картами Архипелага. Немногословный пожилой библиотекарь – мы уважительно называли его «герр Майер» - приносил пухлые глянцевые папки с гравюрами и фототипиями, созданными задолго до Великих Огневых Ударов. В этом была какая-то своя тайна, сравнимая с посвящением в иное, что невозможно выразить всеми знакомыми словами. С плотных листов атласов на меня скалились змееголовые корабли с полосатыми парусами, сторожившие длинный каменистый остров, усеянный башнями, курганами и погребальными стелами, исчерченными магическими письменами. Это был он - дальний остров Архипелага, откуда видна звезда Гелиополиса.
Вечером я опять писал стихи в тетрадь. Наивно-героические юношеские стихи, наполненные звуками вымышленных битв и боевыми криками дружин «морских королей», когда-то бороздивших разгневанные штормовые моря Бургляндии. Иногда слова путались, образовывая неудобочитаемые конструкции. Я вырывал листы, комкал их и тут же принимался писать заново, нервно перечёркивал только что написанное и под конец отбрасывал тетрадь. Перед глазами плыл низкий ноябрьский горизонт. Ранний вечер незаметно таял, впуская глухой полумрак вкупе с ночными духами. А на ветру безмолвно дрожала звезда.
Перед сном я подолгу всматривался в узкий стрельчатый провал окна, тщетно пытаясь разглядеть ЕЁ на тревожном небосклоне, прятавшем звёзды. Сзади подошёл Рюдигер и легонько ткнул меня в плечо: «Всё… пошли-ка спать. Отец-надзиратель Дома Кайзера пообещал, что очень скоро мы отправимся на Архипелаг. Так что учись, дружище, работать веслами. Что, подловил я тебя хорошей новостью?».
Ещё бы. Я едва не задушил его в объятиях. Ещё бы! Мы отчалим от гранитной пристани Святого Георга, обогнём сколотый зуб скалы Двенадцати Мучеников, оставим далеко позади унылые сторожевые башни Лесной Марки и вырвемся на свободу, в открытое море. О, боги, боги, милостивые боги земли и неба, мы будем там, в открытом море!
На следующий день, сразу же после учебной конной прогулки в горах, Рюдигер подошёл ко мне и, выдержав непродолжительную паузу, произнёс: «Всё! Послезавтра идём на Архипелаг. Причём идём при любой погоде».
Этого было более чем достаточно. На занятиях я всё время пялился на портрет Первого Надзирателя Дома Кайзера, оставившего после себя трактат о плавании к Архипелагу. Статный седовласый старик в строгом оливковом мундире полковника стражи Гелиополиса пристально наблюдал за мной. Я же повторял его слова, затверженные наизусть: «Плавание по философскому морю полно скорбей и опасностей огненного чада Гадеса. Это вериги, кои дано носить лишь тем, кто отказался от тепла домашнего очага и навеки проклял всё, что затягивает в трясину адамова невежества. Они – лёд древний, как и все зримые и незримые миры, ибо ОНИ ПРЕВЫШЕ НАС в своем светоносном ангельском величии. Направь же утлый ковчег свой к островам Архипелага, дабы стать прахом в пожаре лучей звезды Гелиополиса. Слушай, слушай, слушай Кормчего! О, Град Солнечный! О, Крест! О, Роза! О, Солнце!». Лектор задавал вопросы, я что-то отвечал невпопад. За спиной послышалось чьё-то хмыканье: «И этот туда же...».
Затем я долго бродил по мягким от опавшей хвои дорожкам парка Рудольфа. За кованой оградой тосковали голодные вороны. Тучи рыдали мелким дождём. Рюдигер шёл рядом и молчал, уставившись куда-то вдаль. О чём он думал? О ярко-жёлтых полях горячей ржи и пыльных деревенских дорогах, заброшенном лесном кордоне в глубине дубравы, таинственных земляничных полянах, волшебстве ночи Святого Иоанна с хороводами девушек, робкими поцелуями и венками из душистых луговых цветов, плывущих по спокойной речушке, баюкавшей звёзды? Рюдигер часто рассказывал об этом.
Мы свет твой, Господи. Мы свет твой. Свет Града Солнечного. Свет Предвечный. Слепну, слепну на дланях твоих…
Мне снились нагретые нежарким сентябрьским солнцем плиты просторных площадей Гелиополиса, Медвежий Столп, золотисто-небесные архангелы и янтарные слёзы в лазоревых глазах Богоматери на фресках церкви Второго Вознесения, неподвижная вода в Замковом канале, где иногда вылавливали утопленников с удивительно красивыми ликами то ли людей, то ли кого-то другого, явившегося с обратной стороны. Я сидел на выступе колонны Императорской Галереи и просто наслаждался ещё одним погожим днём, когда в прохладном воздухе пахнет чем-то сладким с изысканно-утонченным пряным привкусом, напоминающим о жгучем красном перце, кориандре, тмине, шафране и корице в лавках набожных огнепоклонников-персов. Здесь я невольно улыбнулся и вспомнил старого ворчуна Фарнуха, усердно подметавшего свою крохотную антикварную лавчонку, где он торговал всевозможными восточными редкостями – шерстяными домоткаными коврами, медной и бронзовой посудой, резными светильниками из мыльного камня и настоящим сокровищем - рукописными книгами в потёртых кожаных футлярах с звенящими металлическими застежками. Фарнух кашлял в густых клубах пыли, ругался, но продолжал мести. Он жестом выгонял меня на улицу, чтобы потом встретить за прилавком, где неизменно красовались песочные часы, бронзовая чернильница, несколько перьевых ручек, очки с треснувшим правым стеклом, четки из пахучего сандалового дерева и изрядно потрёпанный журнал для записей. Я не обижался и терпеливо ждал возле входа в лавку, изучая идущих мимо прохожих. Из раскрытых окон второго этажа соседнего дома лилось чьё-то протяжное пение. Пели на фарси под мастерский аккомпанемент лютни. Над головой, под самой мансардой, о чём-то ворковали голуби. По середине улицы прошествовал тучный купец-перс, подпоясанный богатым кушаком. За ним едва поспевал тощий приказчик в шёлковых шароварах, заправленных в новенькие канареечные сапоги. Неподалеку дорогу переходила женщина в пепельно-чёрной чадре. Пугливая стройная фигурка, завёрнутая, будто нарядная фарфоровая катайская кукла из коллекции антикварщика Фарнуха, в просторное одеяние, скрывавшее запретное. Наверняка одна из молоденьких жён какого-нибудь видного чина из Туранского Департамента, аккуратно отсылающего еженедельные отчеты во дворец Консула. Мне вдруг показалось, что я слышу мелодичный звон её серебряных браслетов и монет, нашитых на душное платье. Звеньк-теньк. И еще раз. Звеньк-теньк. Нет. Это из Русского Квартала доносился колокольный звон. Величаво выводил колокол церкви Спаса-На-Крови, где всегда было тепло, пахло ладаном и восковыми свечами, а священник, облаченный в кроваво-красные ризы, пел канон из Вечернего Евангелия. «Хвалим тя, Господи, в час скорбный, в час мiра Вечерний, когда Слово Твоё покинуло нас! Слава в вышних Богу и на земле мiр!»
Ныне тоже гудел колокол. И вновь из Русского Квартала. Так звонили только в великий праздник, когда все его жители шли в храмы, чтобы остаться там до следующего утра. По небесно-голубым горним лугам Гелиополиса плыл благовест, осиянный лучами солнца, народившегося в розовых водах зари. Благовест плыл над пакгаузами, складами и бастионами Красного Замка, переливался над перевёрнутой чашей купола Собора Цезарей, отражался эхом от растрескавшихся плит некрополей Тотенбурга, пролетал над скорбным Троном Радаманта и червонно-золотым шитьём садов Малых Гесперид и уносился далеко-далеко, за океанский горизонт, где волны сливались с кафедральными громадами туч – там по невидимой наковальне бухал гром, высекая искры серебристых молний. Над Градом моим - моим Гелиополисом - лился благовест, проникая в пропахшие крепким рыбным рассолом и йодом высохших водорослей полусонные улочки Нижнего Города, силясь разбудить их. Я слышал его голос: «Проснись! Ну же, ну же, проснись! Эй! Хватит спать!» В горле застрял комок. Глаза ослепли от бесчисленных солнц, паливших зенит. Мне грезились пламеннокрылые ангелы, сходящие по небесным лестницам, острия стрел, вознесённые к царственному солнечному оку, заклятые письмена на доспехах и клинках мечей стражей Гелиополиса и нежный, как тонкая пудра, мазок раннего вечера на яблоках из сада Гесперид, застывших на бронзовом блюде в кабинете отца-надзирателя Дома Кайзера.
«Проснись, лежебока! Ну и горазд же ты дрыхнуть!», - Рюдигер тряс меня за плечо.
-Яблоки…, - пробормотал я, вспоминая сон.
-Какие яблоки? А ну подъём! Или забыл? Сегодня идём на Архипелаг…, - засмеялся Рюдигер. – Яблок наешься в раю. Ну, или если очень повезет, на Гесперидах.
-Как Архипелаг? – и тут я вспомнил. Вспомнил! Сегодня… сегодня я увижу Архипелаг и звезду Гелиополиса.
-Архипелаг! Всё! Завтракать и на пристань Святого Георга. Яблок я тебе не обещаю, но свежий кофе уж точно гарантирую, - и тут мне в лицо полетела рубашка. Я, шутя, ткнул в Рюдигера кулаком, но промахнулся и угодил в пустоту. В ответ донёсся его смех.
За завтраком брат Франциск, старший помощник отца-надзирателя Дома Кайзера, назначенный нашим наставником, задумчиво сказал:
-Это ваш день. Увидите ли вы то, что должны увидеть? Не знаю. Всё в руках Божьих. Задумайтесь над этим, господа кадеты. А ещё лучше – помолитесь… Надеюсь, вам не будет стыдно за увиденное.
После непродолжительной паузы мы привычно уткнулись в свои тарелки. Каждый из нас прекрасно знал, о чём шла речь.
К Архипелагу плыли молча, набросив на головы капюшоны плащей, по которым дробно барабанили тугие дождевые струи. Глаза заливала вода. Липкие пряди волос падали на лоб. Весла вздымались и погружались в волны. Маслянистая вода с видной неохотой расступалась перед ботами.
Мы отчалили от пристани Святого Георга, обогнули утонувший в тумане зуб скалы Двенадцати Мучеников, оставили слева сторожевые башни Лесной Марки, просигналившие нам, и, после нескольких мощных, стремительных рывков, вырвались на свободу, в открытое море, оглушившее нас ветрами. Всё так, как я представлял, лежа на казарменной койке.
Рюдигер откинул капюшон, окативший всех нас градом брызг, привстал и раскинул руки. Внезапный порыв ветра едва не сбил его с ног. Бот закачался. Рюдигер пошатнулся, но удержался. Брат Франциск заметил это, нахмурился и промолчал. Он понимал его чувства. В море было всё – волны, ветер, отяжелевшие от снега тучи и свобода, безкрайняя свобода. Потому кажущееся святотатство Рюдигера было простительно.
-Архипелаг! – воскликнул Рюдигер. – Архипелаг! Видите? Там, на горизонте! Ну же! Эй! Слышите, слышите? Архипелаг!
Я видел его. Примерно в трёх часах хода, на границе туч и океана проступили акварельные контуры островов, поросших кое-где редким лесом. Один из них, тот, откуда видна звезда Гелиополиса, чернел поодаль. Вместе с криком Рюдигера тотчас же ожили колокола Русского Квартала, и зрачок уколол ЕЁ луч.
Мы оставили боты в небольшой, но довольно удобной бухте, где море на немного смирило свой гнев. Неожиданно брат Франциск опустился на колени и молитвенно сложил руки. И тут я услышал… Услышал слова, заученные мною наизусть. Слова Первого Надзирателя Дома Кайзера. Наше плавание завершилось. Мы достигли заветного, прикоснулись к сокровенному, отчего наши души обрели благодатную целостность неземной весны, рвущей ледяную удавку полуночного мрака. Мы ожили… Старый торговец антиквариатом Фарнух тоже говорил об этом: «Когда скорбь мiра проходит, Башни Молчания обретают голос и начинают говорить. Солнце согревает землю, готовую для иного, вечного посева. Все свершается по воле Всевышнего. Он услышал молитвы жрецов-мобедов. Причастись и оживи!». Воистину, старик далеко провидел.
И брат Франциск повёл нас. Мы перебирались через нагромождения скальных глыб и пересекали просторные каменные пустоши, продирались сквозь беспорядочно-густые заросли дикой смородины и шиповника, осторожно шли по замшелым полусгнившим стволам деревьев, переброшенным через промоины и овраги, на дне которых бесновались ручьи. Привал сделали в покосившейся избушке хранителя острова, где перекусили разогретыми на костре консервами и сухарями. Я прихлёбывал дымящийся смородиновый чай из чёрной от копоти кружки, наслаждаясь его горьковатым, слегка вяжущим язык, привкусом. Наверное, нет ничего божественнее крепкого чая и свежего сухаря из вещмешка, тугого от всякой всячины. Из туч пробился тоненький росток солнечного луча, оживившего скользкие от дождя бревна избушки. Напитанный водой мох задышал, задымился.
Менее чем через час мы снова тронулись в путь, оставив напоследок хранителю острова спички, немного медикаментов, пакет с рыболовными снастями и еду. На этот раз брат Франциск повёл нас по иному, известному видно только ему, маршруту. В глубине острова обнаружился разрушенный мост и крутые ступени, выбитые в скале, откуда открывался потрясающий по красоте вид на соседние острова. С высоты море виделось расплавленным свинцом, откуда выпирали мохнатые горбы скал, точно это были усмирённые богами свирепые инеистые гиганты, обессиленные и обреченные на забвение. Если бы только старик Фарнух мог всё это видеть!
Ближе к вечеру мы отправились к дальнему острову Архипелага, где собирались заночевать. Гребли тяжело, рывками, оставляя в стороне хмурые мглистые кручи, ныряя в бездонный омут клейкого тумана, стлавшегося драным саваном по волнам.
Когда остров стал наползать на нас угрожающей тёмной глыбой, ночь пала плащаницей на Архипелаг.
Мы причалили к бывшей пристани. О ней напоминали зелёные от водорослей волнорезы и едва заметные останки свай. Из глубины острова потянуло влажной сыростью и прелой листвой (было что-то знакомое, пришедшее из детства, в этом запахе, где перемешались дуб, клён и лещина) с едва-едва уловимым, каким-то далёким и чужим ароматом хвои. В тучах появился небольшой матовый просвет с двумя-тремя тусклыми звездами, осветившими на мгновение всех нас, ожидающих чего-то необъяснимо необъятного.
Брат Франциск смело шагнул в слепую темень, хрустнув костяком плавника, неосторожно раздавленного ногой. Мы медленно, с некоторой опаской потянулись за ним. Ни один из нас не оглянулся, ибо там плескалось море, где в тумане скрылось, растворилось, утонуло всё прошлое, ненастоящее, всё еще бередившее закоулки памяти: ночник у изголовья, тёплый золотистый отблеск на образе Николая Угодника, простуженный кашель няни, топот босых ног по холодному полу, завёрнутый в сказочную серебряную бумагу подарок под рождественской елкой, разбитая коленка сестры, грустная улыбка на лице влюбленной дочери управляющего, кровь на отцовском кинжале, влажные от слёз глаза матери перед моим отъездом в Бургляндию. Часы замерли. Время остановилось. Тишина. Стук сердца. Бормотание волн. Приглушенное шелестение гальки. И ещё шорох. Словно чей-то голос. Шорох ветра.
А мы всё шли и шли. Голые колючие ветки больно били по лицу и рукам, оставляя порезы и царапины. Раз или два я спотыкался и падал в зябкую от ночного инея траву. Чьи-то руки поднимали меня, кто-то неразличимый в сумерках (похоже, что Рюдигер) дышал в лицо дешёвым солдатским табаком, и мы продолжали идти.
Наконец движение прекратилось. Я замер. Впереди сделали то же самое. Тишина. Ни единого звука. Вокруг не видно ни зги. Время... Кто сейчас думал о нём, когда каждый из нас стоял на пороге?
-Всё…, - услышал я. – Вы пришли. Дальше идти некуда.
Больше брат Франциск не вымолвил ни слова. Слова иссякли. Перестали существовать.
Хотелось плакать. Или кричать. Но… всё на острове, всё, вплоть до крохотного побега пустырника и растрёпанного пера серой чайки, жило тишиной. И не было ни единого звука. Остров на краю всего.
Свет. Боже, Боже, Боже! Свят! Свет! Полог тьмы разорвался, чтобы обнажить неземное великолепие звездной чеканки, пасть и уже никогда не вернуться. И мы увидели. Узрели. Ослепли на дланях Его…
Горизонт почти очистился от туч. Там всё ещё тлели иссиня-багровые угли осеннего заката – нереальные, морозные, вечные. Морская бездна цвета тёмной венозной крови неторопливо вздымалась и опускалась, протяжно выдыхая пар, лепивший в воздухе причудливые фигуры. Прибой исступленно размывал берег, обтачивая дряхлый камень, покрытый трещинами едва различимых значков и рисунков. Ночь давно перевалила за половину. Я ждал. По щекам катились слезы. Неужели я плачу? Разве я не разучился… плакать? Нет. Я сглатывал слезы и продолжал ждать. Невесть откуда налетевший ветер ударил по глазам, царапнув на прощание когтистой снежной крошкой.
Потом мне стало ясно, почему я плачу. Сквозь слезы я увидел. Звезда Гелиополиса пересекла все девять звезд созвездия Одинокого, задержалась возле красноватого пятнышка Волчьей звезды, и замерла в зените - как раз напротив трезубца Десницы и Меча Господня.
Кто-то всхлипнул, но тут же умолк. Я обернулся, но никого не смог разглядеть. Ни коленопреклоненного Рюдигера, ни близорукого Янчевецкого, ни брата Франциска, судорожно перебиравшего четки. Всё исчезло. Остались лишь камни, уродливые стволы сосен, прибой, море, обманчивая неподвижность студёного ноябрьского неба и звезда Гелиополиса.
-…и яблоки сада Гесперид, и колокола Русского Квартала, и звезда Гелиополиса, - всё по воле Всевышнего. Если веруешь, то истинно обретёшь. Разве Вы не ощущаете этого? Или молитва Ваша не более чем красивая обложка молитвенника с каллиграфически выписанным именем? «Мол, вот я, Господи, воззри на меня, грешного и не забудь одарить всеми возможными милостями», - спросил антикварщик Фарнух, когда я покупал у него редкое издание древнеперсидской поэзии с поздними комментариями Ксантиппы фон Небельхайма.
-Чем вы недовольны, почтенный Фарнух? – отозвался я, бережно принимая книгу и перекладывая ее в новую виниловую папку с красным гербом Департамента Стражи Гелиполиса.
-Всё тем же, тем же. Зимой всегда болят кости. А сегодня как раз первый снегопад. Снег так и сыплет с утра. Дождались на свою голову зимы. Ну что тут поделаешь? - Фарнух вздохнул и привычным движением смахнул случайную ворсинку с прилавка. - Смотрите, будьте аккуратны с книгой. Бумага старая. Такую сейчас не делают…
-О, не беспокойтесь, почтенный Фарнух. Вы же хорошо знаете, как я обращаюсь с книгами, особенно с такими драгоценностями, как эта? – я поспешил успокоить его, параллельно продолжая возиться с непослушными застёжками папки. Мне стало как-то неудобно перед мудрым Фарнухом.
-Ничего. Это я так… К слову. Простите, если ненароком оскорбил вас, - извинился антикварщик и ещё раз вздохнул.
-Что вы, почтенный Фарнух, - тут уж я окончательно смутился. Застежки папки, наконец, поддались.
-Скажите, сегодня вы опять пойдёте по улице Базилевса Константина?
-Да, почтенный Фарнух. Я всегда там хожу.
-Я пойду с вами. Мне хотелось бы немного пройтись перед сном. Сейчас закрою лавку и пойдём, - Фарнух, шаркая ногами, вышел из-за прилавка. Я помог ему набросить на плечи шерстяную накидку, залатанную в нескольких местах, но выглядевшую при этом вполне благопристойно. Антикварщик окинул свои владения долгим взглядом. Даже уходя на полчаса, он прощался с мiром, ставшим для него смыслом всей его жизни.
Какое-то время Фарнух гремел замком нудно скрипевших дверей. Как старик не смазывал им петли, они всё равно продолжали скрипеть на свой лад. Мы вышли на улицу. Она поразила нас крахмальной белизной и лёгким приятным морозцем, стянувшим вчерашние лужи тонкой хрустящей корочкой. Знакомая улица преобразилась. Снег тщательно выбелил грязную мостовую. Мне показалось, что прошла целая вечность с того момента, когда я, уставший и ужасно голодный, вошёл в тесную лавочку Фарнуха, где едва-едва могли разместиться три, в лучшем случае четыре, человека. Как же всё изменилось! Ещё вчера всё было по-другому – серо, тошно и нелепо. Осень пролетела, омыв уставшее тело земли беспрестанными дождями. После зимы со святочными плясками ряженых, безсонными ночами, освященными молитвами, восковыми свечами и трубным воем вьюг всё вернётся на круги своя, чтобы заново родиться в огненной купели нездешней весны.
В окнах соседнего дома зажёгся первый вечерний свет. С припорошенного снегом карниза вспорхнули птицы. Где-то хлопнули ставни, и звонкий женский голос позвал заигравшегося ребенка: «Ступай домой! Сколько мне ещё тебя звать?» А малыш упрямо твердил: «Еще немножко, мамочка. Совсем чуть-чуть. Здесь так чудесно».
-Чудесно… Так и должно быть. И этот снег, и мои больные кости, и даже книга, приобретённая вами... И Звезда Гелиополиса…Снег обязательно скроет пепел…, - негромко промолвил антикварщик Фарнух, опьяневший от стеклянной чистоты воздуха и крупных снежных хлопьев, безмятежно круживших над Гелиополисом. – Вы идёте, молодой человек? Нам пора…
-Пора, почтенный Фарнух…, - ответил я, приподнимая шершавый воротник шинели.
А снег всё сыпал и сыпал…
Зима 2001 – Апрель 2004 года
СИМФОНИЯ БУРГЛЯНДИИ
Авентюра Вторая: Apeiron
Apeiron – греч. Безпредельное
От автора
Воистину, мы скорбно ютимся среди превеликого множества мiров – обыденного реального, хорошо знакомого нам, и иных, сокровенных, куда стремится всё наше обреченное, неимоверно уставшее существо. Время от времени граница между ними исчезает, и тогда ирреальные, неописуемые, завораживающие образы постепенно заполняют и без того переполненное сознание, блуждающее в потёмках. Мы тщетно пытаемся постигнуть их, сделать частью себя, но они неподвластны нам, поскольку происходят из «других», известных совсем немногим, мест. Понятны лишь намёки, единичные, едва заметные штрихи.
Теперь мiрам снятся страшные, пророческие сны. Сны тяжёлые, смутные, пасмурно-свинцовые, с редкими бледными цветовыми вкраплениями. Эмбиентные сны всадников Дикой Охоты. Сны, напоминающие апокалипсические гравюры Альбрехта Дюрера или био-механический инфернал-арт Гигера. Нынешние элементалы переполнены отравой, против которой навряд ли найдётся действенное противоядие. Такое чувство, что совсем скоро, а возможно даже сегодня, грядёт глобальное вторжение по всем возможным направлениям, когда мгновенно будет сметена самая совершенная, сплошь hi-tech, оборона. Однако действительность доказывает обратное – линии обороны давно сметены и война гремит уже повсюду, несмотря на доверительно-успокаивающие уверения с пацифистским душком. Наверное, потому и рождаются столь пронзительные, противоречивые, сюрреалистические образы в доме, чьи хозяева не замечают объявшего его пожара. Расстояние между томиком Жерара де Нерваля и ковровыми бомбардировками абсолютно исчерпано. Расстрелянная обойма и бокал с «Шардонэ» слились воедино, обретя благодатную целостность андрогина.
Я всего лишь узрел очертания Гелиополиса в горчащем дымном мареве…
And Festivals End
As Festivals Must…
Death In June «Rose Clouds Of Holocaust»
Странно и священно догорать свечою…Таять горячим жёлтым воском и расплываться по липкой, будто это мухоловка, поверхности стола, замусоренного грудами рваной бумаги, взъерошенными, сплошь заляпанными книгами, хлебными корками, пустыми пакетами, оставшимися от безвкусной вьетнамской лапши, и грязными тарелками. Агонизирующие часы на секретере проскрежетали четверть второго. Спать. Спать. За плотными светонепроницаемыми занавесками глумливо скалится ночь, стуча по стеклу тугими ветряными шомполами. Напоминает бичевание юродивых в День Прихода Танков. А в своё время я сам предрекал это на экране монитора. Что ж, некоторые фантазии вполне могут и сбыться. Со дна двора доносится чей-то истерически-пьяный смех, детский плач, куда вклинилось визгливое тявканье воздушной тревоги. Началось, наконец-то, началось! Через мгновение я снова услышу хлопки дальних разрывов и такающее стрекотание зениток. Мне не спится. И в бомбоубежище идти не хочется, несмотря на настырные предупреждения синтетического голоса из ожившего радио: «Граждане! Воздушная тревога! Граждане! Воздушная тревога!». Читаю при свечах «Res Prisca» Ксантиппы фон Небельхайма (кстати, буквально вчера закончил перечитывать «Cantos» Паунда, совершенно махнув рукой на курсы гражданской обороны и бессмысленное стояние под дождем за внеочередной «гуманитарной» пайкой). Остановился на середине шестой главы.
««Неужели всё?», - подумалось ему, когда он замер на хрупком краю Коцита, откуда вдруг дохнуло ужасом безвременья. Где-то там, в пустынной дали, остались умирать ажурные замки ледяных торосов. Белоснежные вестники Феба-Ликорея трубили прощальную песнь, уносясь к Арктуру - Медвежьей Звезде.
Влажную от волнения ладонь случайно обожгло перо. Он прикусил губу от боли. «Странно, я ведь ждал этого. Оно мне снилось когда-то в детстве», - подумалось ему. Глаза были мокры от слёз. «Ты не боишься?», - донеслось из гулкого безформенного ниоткуда. «О, нет, нет… нет! Испытай меня! Ты же знаешь, что я готов!», - в отчаянии выкрикнул он, поразившись грохоту собственного голоса, отразившегося от небесного свода, неожиданно сделавшегося таким близким, таким осязаемым. И именно тогда он потерял крылья и вернулся в оболочку обычного, разбитого человечка, подверженного всем смертям. Так завершилась его одиссея…».
За занавесками коробится, скрипит, стенает чёрный лед, наползающий на костры городов. Тараторят, переговариваются зенитки, по нахмуренной облачной вате чиркают трассеры. Засиженное мухами стекло окна яростно царапает стужа грядущей зимы. Я знаю – она потушит зарево и причастит наши пока ещё дымящиеся руины. Спать. Спать. Дом напротив истошно закричал, когда в его уютное обывательское чрево впилась ракета, выпущенная откуда-то из гремящего поднебесья. Землю тряхнуло, подбросило вверх и тут же разодрало на части. Обратно вернулись мёртвые тела, горящее тряпье, куски арматуры, клубы цементной пыли и битый кирпич. Ударная волна с оттяжкой шарахнула по окну, эффектно довершив начатое. Чёрное колючее крошево разметало по всей комнате, исчертив ободранные сырые обои ярко-вишневыми и жирными сажевыми полосами…Это красиво по-своему – тёплый, живой, маняще-алый сок вишни, стекающий по стене на давно нечищеный палас. Сок вишни, пунцовеющий бутонами алхимической розы на угловатых буквах “Res Prisca”.
Почему я так и не уехал на побережье вместе с Анной-Маргаритой? Она ведь наверняка ждала меня там, на перроне, под проливным дождём, зажав в кулачке замшевые перчатки. Плакала ли она? Почему я…
Боже, всё-таки как странно и священно догорать свечою... Догореть свечою…
Спать. Спать.
Apeiron #1: Капище (Мюрквид)
В День Осеннего Равноденствия мы приняли Причастие и вошли в Мюрквид. На этот раз всё было по-другому. Не так как в прошлом году. В этом году сентябрь выдался на удивление тёплый и сухой, со свежими августовскими ночами, с глубоким небосводом, сплошь усыпанным созвездиями. Даже сейчас, на излёте месяца, всё ещё пахло летом. Жаркий полдень переходил в размеренную дневную лень, которая вечером покорно сгорала в золотисто-оранжевых пожарах закатов. Иногда, неведомо откуда, случайный ветерок приносил сухую дымную горечь – то ли на дальних полях запоздало жгли ржаную солому, то ли старые, остывшие пожарища снова напоминали о себе по прошествии стольких круголет.
В капеллах Бургов, пронизанных живящей солнечной радостью, тысячи голосов пели «Белую Хоругвь» и гимны Стального Канона. Из потаённого сумрака Собора Архистратига Михаила выносили штандарты и хоругви под молитвенное пение. Кадеты, отцы-наставники, кондотьеры и иноки несли на руках Плащаницу Капитана, заново обретённую перед Вторым Пришествием. Теплынь. Беззаботно звенит безпокойная мошкара. Колонны кадетов покидают двор Собора. Поют «Слово Господнее». Зюйд-ост треплет бархатные полотнища флагов. Полотнища раскачиваются, чуть слышно шуршат. Чёрное. Белое. Красное.
Великий Кондотьер, фра Стефан Ангел, посвященный недавно в почётный сан криг-архидьякона, выводит красивым голосом:
Молча свой дух вознеси
В выси пречистых небес
Чтоб он внимал тишине
В долгой печали ночной
Чтоб в тишине он окреп.
Выйди из мрака на свет
Голос и слух обрети
Шёпот любимых услышь.
Словом Господним явись*.
Слова из ложного, отринутого прошлого, где они стали краюхой железного хлеба и рубиновым смертным кагором для ушедших, не вернувшихся. Мы всегда помним о них. Они – Наша Совесть и Наша Душа.
Мы выходим на Нова Виа Долороса – Крестную Дорогу, ведущую к выжженным холмам Второго Вознесения, куда уходят принимать Смерть. Уходят, чтобы вернуться. Только раз в году, на Вознесение Христово, на холмах появляются нежные цветы с душистыми лепестками цвета крови. Они цветут всего несколько часов. Несколько томительных мгновений вечности, когда в Бургах свершается таинство Божественной Литургии. В эти часы всё ветхое, неживое умирает, чтобы возродиться. Огонь нисходит с небес и обращает греховную плоть в пепел. Именно тогда кричат мiры.
Когда идёшь по Нова Виа Долороса, не замечаешь ничего вокруг – ни изогнутых замшелых стен, ни угрожающе-тёмных зарешёченных оконных зевов, ни чешуйчатого змеиного кольца Уробороса на дряхлом барельефе часовни Блаженного Серпентия. Внутри всё замирает, немеет, как бы готовясь войти под дремучие покровы чащобы Мюрквида. Этой дубраве вполне подходит это название – настолько она нелюдимая, пугающая, источающая туманы призрачных видений. Рубеж между восторгом и забвением. В Мюрквиде исчезает всякая ориентация. Север и Юг путаются, а Запад и Восток перебираются поближе к полюсам, чтобы вскоре разбежаться. И так до безконечности.
Помню, как мы добрались до сердца чащи, где наткнулись на частокол, скрывавший исполинские стелы и базальтовый алтарный куб с небольшой выемкой, на дне которой блестела дождевая вода. «Это и есть капище…», - послышался чей-то испуганный шепот. «Во время Великих Огневых Ударов здесь умирали короли… Говорят, что их души запечатаны в стелах. Красивая легенда…», - ответил ему кто-то и кашлянул. «Нет же, смотри… Вот первый Консул Гелиополиса, а рядом с ним – Стражи. А там… Неужто не видишь? Там, на заснеженном склоне Белой Горы. Это сербские мученики… Сколько их! Их ещё называли «преданные мученики»... Мiр тогда был совсем другим, проклятым, богооставленным… Тогда юродивые правили бал, думая, что вершат судьбы… Бог мой! Смотри же! Там, слева от тебя, полыхающие Башни Запада… Господь обрёк их на неугасимое пламя…Разве ты не помнишь последней проповеди отца Андрея?», - заспешил, заторопился первый голос. «Вижу, вижу… Мы и так отстали от всех. Поспеем ли до холмов?», - ответивший явно устал и ему было совершенно всё равно. Похоже, что разглядывание стел его чересчур утомило. «Нет, никогда тебе не стать Стражем… Неужели ты ничего не видишь?», - в первом голосе появилось раздражение…
От ветки оторвался, запорхал дубовый листок. Наконец, он опустился прямо на мой мундир. Я принялся рассматривать его. Меня поразил цвет – бурый, с багровыми вкраплениями, как будто пятна засохшей крови на камуфляжном армейском бушлате, вспоротом автоматной очередью. И ещё мне показалось, что я вижу лицо – исхудавшее, страдальческое, безцветное от нечеловеческой боли. Кто это был? Чьё, о, Боже, Боже, чьё страдание пало мне в руки? Дубрава Мюрквида не давала ответа. Не хотела. Память, непокорная память тоже молчала, а я бился в неё, стучался, колотил что есть силы разбитыми кулаками. Разве что в где-то глубине, под толщею земляной тьмы, среди влажного шевеления белесых червей, вспыхнул и тут же угас разрыв шальной ракеты. Вслед ему завыл ангел с волчьими очами.
Выйди из мрака на свет
Голос и слух обрети
Шёпот любимых услышь.
Словом Господним явись.
Теплынь. Чистота. Мы крестимся и поём. Пальцы сжимают край Плащаницы Капитана. Мы продолжаем идти к холмам Второго Вознесения под ясным сентябрьским небом Бургляндии.
И где-то воет ангел с волчьими очами.
*Стихотворение немецкого поэта-символиста Стефана Георге (1868-1933)
Apeiron #2: Stella Borealis (Арктос)
Alaf Sig Runa!
Укажи мне путь в ночи…Взгляни на восставшие воинства мои. Воззри на подъятые хоругви мои. Вот стоим мы на краю, где смерть читает молитву отходную, молитву верную, молитву вечную. Узнаешь ли хмельной вкус вина причастного, питья горького? Вот ныне пришли мы и ждём. О, подай, подай, подай же знак мне.
И вот звезда светит нам в ночи…
И мiр мой обратился в прах…
И тогда вождь спросил меня (а я сидел у него в ногах, лениво блуждая пальцами по струнам арфы-лангелега и разглядывая узорчатую золотую фибулу, только что заслуженную за пение хвалебной драпы в честь победы вождя): «Доколе блуждать нам? Ведом ли тебе ответ? Что открыли тебе боги?». Я приподнял голову и взглянул на него. Наши взгляды встретились. Мой – удивлённый и его – жадное, остро отточенное лезвие боевого ножа, вырванного из ножен. Холодно. Холодно! Вождь был как никогда серьёзен. Он ждал ответа.
Но что, что я мог ответить, когда мiр мой обратился в прах?
И вот льды – все снегоцветные, и вот хищная мантия стужи, и вот сома-амрита звёздная в небесном Граале. Боги, боги, где вы? Я поднимаюсь всё выше и выше, отряхивая гнилую труху с крыл моих... Во мне рыдает звезда сокровенная, звезда огнепалая, звезда рождественская. Звезда Живых. Stella Borealis.
-Я не ведаю, не ведаю ответа, о, вождь мой! Кто я такой, чтобы ведать, когда мiр мой сделался прахом? Не удержал я мiр свой, растерял сокровища, отвернулся от Правды Всевышнего и бесов, бесов кликал…
-Как же ты потерял мiр свой? Почему не удержал? На что растратил данные тебе силы?
-Не ведаю, вождь мой. О, не ведаю. Давно не ведаю. Всё как в тумане. В ночи блуждаю…
И тогда я изведал сон. Вьюга за крохотным слюдяным оконцем пропела мне колыбельную полузабытым голосом матушки. В печи смеются, потрескивают берёзовые дрова. Из сеней свежо пахнуло сугробом. В трубе заунывно загудело, заплакало, сыпануло золой. Снег шелестит по заметенной крыше. Щека греет подушку, от которой сладко веет снами. Быть может, потому и чудится карамель - клубника со сливками - разлитая в жарком воздухе?
Я изведал сон…
На пронзающем зимнем ветру дрожал обнаженный костяк деревца. Его обмёрзлые кости-ветви издавали тонкий звон, словно это были драгоценные подвески, нежно ударявшиеся друг о друга. Угольный плат неба серебрился звездной пылью. И лишь одна звезда светила ярче всех на сизом замороженном горизонте.
И тут я испуганно обернулся и вскрикнул от увиденного. Позади, из сиренево-фиолетовой дымки ледяных долин, обрамленных снежными стенами, вырастали колонны… Растянувшиеся на долгие мили, необъятные стальные колонны с взметенными стягами. Чёрное. Белое. Красное. Град. Солнце. Тис. Стрела. Бог. Кружевная кисея инея легла на кольчуги, кирасы, шлемы, копья, мечи и щиты. Окутала плащом, скрыла, застудила. Фыркали мохнатые лошади, с шумом выдыхая густой молочный пар. Недвижные всадники на них чего-то ждали. Чьи-то ненавистные взгляды пожирали меня. Почему я здесь? Почему я не там… у себя дома, в доме, где сотрясаются стены от далёких разрывов? На какой странице “Res Prisca” я остановился? И почему погасла свеча. Где спички? Почему я…
-Ты видишь звезду? – громоподобный голос ударил соборным колоколом, оглушил, сдёрнул на колени.
-Ты видишь звезду? – снова повторил он.
-Да… вижу…, - еле слышно пролепетал я. Однако меня услышали.
-Так назови её! Выкрикни!
-Нет…
-Выкрикни! Выкрикни! Выкрикни!
-Не знаю её имени… забыл…
-Ты помнишь её! Знаешь! Выкрикни!
-Нет! Нет! Нет!
Звёзды дрогнули. Та из них, что светила ярче всех, застряла, запуталась в кроне деревца. Вконец окоченевшие пальцы (я совсем не чувствовал их, последнее тепло по каплям покидало тело) протянулись к ней, силясь ухватить. Воздух становился всё плотнее и плотнее, пока не сомкнулся надо мной наподобие коробки гробницы. Дыхание остановилось. Звезда ускользнула, утекла сквозь пальцы, когда я вспомнил…
- Арк… Тур… Арктур…
- Арктур! Арктур! Арктур! - я оглох от раскатистого эха голосов, одновременно выдохнувших это.
- Арктур!
- Ты назвал её… Я знал, что ты не забудешь…, - вождь смотрел на меня сквозь пелену, застлавшую глаза. Так хотелось сорвать её, но я не мог.
- Ночь… Ничего не вижу… Я… умираю?
- Ты не умрёшь. Сегодня ты вспомнил. Значит, ещё будешь жить. Теперь нам ничего не угрожает. Звезда выведет нас.
- Как… хорошо…Ночь…
- Ночь. Спи…Ты устал…
Укажи мне путь в ночи…
Apeiron #3: Wolf Angel
То ли Ангел в дожде? то ль жасминовый куст
У дороги в тумане теряется?
Я лицом в него тычусь да трусь…
То ль взлетает он? То ль осыпается?...
Тимур Зульфикаров «Песни Дионисия Богомаза»
Вот я ангел твой, Господи, Отче. Я ангел… И лик мой – звериный, волхатый, волчий.
И вот на запад смотрю, падаю. На закат смотрю. Закат адовый, пекельный, ползучий, змеиный.
И дом мой, храм мой, колыбель моя в жару, в пламени. Стропила падают, давят, сжигают. Всё угли, гарь да каша пепельная. Всё в дыму и в огне.
И вот иду, бреду по снегам чёрным, погибельным, и всё плачу, плачу.
Почто плачешь, кручинишься? По ком скорбишь, о, ангел, ангел Божий?
По вам, всё по вам, дети-сироты Божьи. Почто Бога оставили?
И вот иду и слёзы, слёзы вижу. И вот Отчизна-Родина моя – млечная, пречистая, святоносная, светлая, светлая. И враг-недруг топчет, кромсает, гноит её. Ликует, радуется, бьёт в цимбалы, да в трубы-горны трубит. А дети её – что кутята незрячие, неразумные… Всё пьют, едят да веселятся. А морок-смерть, бабища - навья костяная, хворь бубонная, адоликая, всё ходит и ходит средь них. Как же холодно, морозно нынче, Господи… Зима, студень свирепый, колючий, сорняки горькие посередь Лета Твоего.
Вот на кургане ковыльном, степном, дикопольском стою. Ветер в лицо - ржаной, жатвенный, июльский. И небеса лазоревые, васильковые в окладах золотых, драгоценных. И плачу я, плачу, о, Господи, Господи! А хлеба-то мои пали. А хлеба-то мои голодные. А зима грядёт долгая, трудная. Будем ли живы ещё, когда Бога отринули, когда бесов кликаем?
О, Господи, Отче! Зришь ли Отчизну-Родину мою? Плачешь ли? Слышишь ли мя?
Плачу я, плачу, о, Господи, Господи!
Вот города, жилища мои – всё серые, душные, всё соты тесные, шумные, мертвячиные. Всё пчёлы, насекомые в них – сирые, убогие, душу растратившие, потерявшие, променявшие, проклявшие, убившие. И страх, беда, хворь в них гнездится, обитает. Всё скалится, кривляется, щерится перед очами незрячими их. И человеки что листья осенние, октябрьские, от ветвей древа родного оторвавшиеся. Всё летят, летят они в поисках тёплого пристанища. Все летят, веют над пожарищами.
И все погосты, погосты, о, Господи, Господи! Сколько, сколько их сейчас! Тянутся, растут, жиреют, пухнут от даров, приношений страшных, плоти умерщвленной пулями, мором, голодом. Всё кресты, памятники да оградки, да венки, да яйца крашеные, да ломоть кулича на Пасху. Это ведь дети твои там лежат, землёю присыпанные, дети твои лежат, спят, землёю, глиною укрытые, о, Господи, Господи!
А дети твои – в отрепье жалком и с рукой протянутой. А другие – бесов, демонов зазывают, скликают. Всё то им весело, всё то им радостно. Я ходил, бродил там, о, Господи, Господи! Я смотрел в глаза нищего ребёнка, замерзающего на улице, и был горючей, жгучей слезою матери, потерявшей детей своих. Я видел, видел скорбь людскую, о, Господи!
А другие – всё пахли, курились ароматами зловонными, и все мошною трясли в домах игорных и на зрелищах. А Родину мою, Отчизну мою, Матерь, Маму мою на торжищах продавали, плоть живую, материнскую, крюками рвали, железом калёным палили, жгли, да приговаривали: «Кричи, мол, кричи! Никто, никто, никто не услышит! Кричи, а мы то послушаем!». А потом всё хохотали, глумились купчины, да девок крашеных, глупых тискали и поили допьяна.
Я был там, о, Господи, Господи! И пшено снежное валило, сыпало на поля, равнины Отчизны-Родины моей. И пшено то снежное укрывало тело нагое, уязвлённое, болезное.
И тогда я вострубил в трубы звонкие, трубы медные, трубы набатные…
И мёртвые вставали…
И подъял меч я…
И лик мой переменился…
Ныне я ангел. И лик мой – звериный, волхатый, волчий.
Как буду в глаза смотреть Твои, о, Отче, Господи? Не покинь меня!
Не проклинай мя, Отче! Дай сил мне! Ибо я – десница твоя! Я – правда твоя! Я – меч твой!
Пусть чёрен, страшен лик мой…
Вот иду по гарям славянским, сербским и грязны, унылы, скорбны ризы-рубища мои. Иду в дыму горячем косовском, Господи! Иду по камням, руинам церквей, храмов твоих разрушенных, Господи, Господи! И орлы, воронье, трупники стальные вьются, грают надо мной! И всё звёзды, звёзды на них!
Вот иду по гарям Отчизны-Родины моей и плачи, плачи слышу! Как молчать могу, Господи, Господи?
И всё голоса, голоса слышу я. И всё то они хулят, бранят, сквернословят Отчизну-Родину мою, и всё то они учат нас, провещают «истины», «правде» учат, и всё то радуются, когда тошно, когда больно нам…
Прости мя! Прости! Кричу я, кричу, о, Отче, Господи!
И в деснице моей – меч заклятый, гневный, карающий!
И в очесах моих – громы, сполохи!
Ангел, ангел Божий, что видишь-зришь на западе?
Всё пожары, пожары… Всё темень оглохшая, полуночная, коростовая… И всё змеи там шипучие, адовые, ядом истекающие…
Ангел, ангел Божий, что видишь-зришь на востоке?
Солнце пламенно, небо – каменно…Там Солнце, Светоч, Огонь нарождается… Там Отчизна-Родина моя ржаная, тёплая. Там мама, мама моя…
Ангел, ангел Божий, что видишь-зришь на севере?
Книгу вижу, Господи… Книгу Новую, Слово Живое, Слово Истины… Звезда путеводная, Древо вышнее, Грады горнии… Чёрные. Белые. Красные…
Ангел, ангел Божий, что видишь-зришь на юге?
Всё дымы, дымы…
И вот Ангел Чёрный вострубил…
И вот Ангел Белый вострубил…
И вот Ангел Красный вострубил…
Вот я ангел твой, Господи, Отче. Я ангел… И лик мой – звериный, волхатый, волчий.
Весна 2004 г.>
СИМФОНИЯ БУРГЛЯНДИИ:
Авентюра Третья: Несколько Строчек На Клочке
Весны
Посвящается И. М.
Вера течет рекой
По скользким камням,
Сухой ледяной рукой -
По твердым ставням,
В мечтах пожилой любви -
Живым скелетом
Да страхом живой крови
И пистолета.
Роман НЕУМОЕВ
Как ты там, дружище ты мой? Как же больно без тебя… И как-то муторно, сиротливо в близоруких потёмках души, словно изящными никелированными буравчиками выдрали оттуда добрый кус… Наверное потому, что ты ТАМ – в «вечной весне одиночной камеры», где ты встретил своё 23-х-летие. Твои 23 года – число священное, конспирологическое, совсем «в твоём духе». Так, американский психоделический иллюминат, дискордианец и телемит Роберт Антон Уилсон в своих «невообразимо странных» писаниях разработал настоящую мифологию 23. Одно из его значений (согласно древней китайской мудрости, заложенной в гексаграммах «И-Цзин») – «разрыв», «раскол», но также и «благо», «жизнь». Это твой выбор – смелый и суровый, подобный блеску праведного меча (ты же прекрасно знаешь - в его тени обретается правда Эдема!), «разрыв» с конвейерными марионетками «объективной реальности», где все подчинено логике бесконечного «реалити-шоу». Просто сиди да пялься в экран! Авось выпадет приз! Дружище, ты сильнее всего ЭТОГО, ведь у тебя есть то, чего никогда не было у «покойного великого большинства», «мёртвых» юродивого Егорушки Летова - ВЕРА! Именно её то и страшатся больше всего те, кто однажды «вежливо» постучался в твою дверь!
Знаешь, а я почти привык каждый день читать в гостевой твои пространные многословные сообщения, отправленные из далёкого-предалёкого городка где-то в обветренных южных степях. Мы обсуждали творческие планы, вспоминали общих знакомых, передавали приветы, отчаянно спорили, но тотчас же мирились, поскольку НАМ НЕЧЕГО БЫЛО ДЕЛИТЬ. Сейчас, когда ты ТАМ, я стараюсь представить себе, как начинается твоё утро. Что ты видишь из замызганного окошечка своей каменной коробки? Драный облачный ситцевый саван, прячущий солнечное мартовское бельмо, только-только начавшее наливаться ярой силищей грядущего летнего пожара, или слепящую небесную лазурь, которую так и хочется пить, пить и пить жадными большущими глотками? Скажи, дружище, ТАМ небо тоже… ДРУГОЕ?
Я часто смотрю в небо. Особенно люблю летнее, в обжигающий июльский полдень, когда припекает так, что мочи нет терпеть, а в горле туда-сюда пересыпаются микроскопические песчинки. Идёшь себе беспечно (на речку или куда ещё) по просёлочной дороге рядом с хлебным, налившимся бронзовыми литыми колосьями, полем. А небо над тобой, что потолочный свод в Храме Божьем – бездонное и вечное. И так хочется взлететь туда, в головокружительную святую высь, махонькой птичкой-жаворонком и распевать себе хвалы всеблагому Создателю.
А в полуночном августовском покое столько звёзд рассыпано на бескрайнем фиолетово-чёрном скифском бархате, что хочется исчезнуть, навсегда раствориться в нём. Лишь бы крылья трепетали за спиной! Когда я впервые услышал, как звёзды переливаются, звенят крохотными чистыми бубенчиками, из глаз полились слёзы. Ведь это немыслимое счастье – наслаждаться торжественной предсентябрьской симфонией звёзд! Под ухом, в высохшей траве, кто-то скребётся и шуршит, тонёхонько зудит-попискивает невыносимое комарьё, из луговой низины тянет болотной сыростью, а горизонт над дальней лесополосой перечеркивает серебристый росчерк упавшей звезды. И никакой наиталантливейший авангардный композитор, сочиняющий сложные электроакустические пьесы, подавно не сможет сравниться с таким живым монументальным великолепием!
Нет, всё-таки ТАМ, за «надёжно» запертой железной дверью с дырочкой смотрового глазка, ты наверняка смотришь в небо и просишь у него поддержки. Вот снова представил себе, как на прогулке ты прислоняешься спиной к шероховатой кирпичной (а, может быть, и оштукатуренной) стене, запрокидываешь голову и наблюдаешь, как в вышине размеренно, одно за другим, проплывают величавые павы-облака. И ничего вокруг нет – ни скучающих стражей в серых казённых полушубках, ни мокрых решёток клеток людского зверинца, ни приглушённых звуков, доносящихся откуда-то снаружи, ни ржаво лязгающих дверных засовов, ни чьей-то тоскливо-небритой рожи, нудно талдычащей о своей невыносимой доле… НИЧЕГО. Есть лишь монашеские покой и тишина. И небо, небо, безгрешнее и справедливее коего нет (и не может быть!) ничего!
Да, НАМ НЕЧЕГО БЫЛО ДЕЛИТЬ. То, во что мы ВЕРИЛИ, по-братски сближало нас. И расстояния в сотни километров не были нам помехой. Напротив, казались чем-то малозначимым, существующим как бы в чужом измерении. Я торопливо писал тебе, грохоча по клавиатуре, «Привет, дружище!», а ты весело отвечал «Здравия!». И как-то становилось тепло от этого, словно я только что крепко пожал тебе руку и дружески хлопнул по спине.
Мне не хватает тебя! Если бы знал – как не хватает! Не хватает наших «философических» ночных посиделок на кухне, когда мы в немереных объемах поглощали горячий чай и студеный, прямо из морозилки, квас (вот он - наш «квасной патриотизм»!). О чём мы только не говорили тогда – в те душные июльские ночи, когда за окном дрыхли полутёмные коробчатые, точно склеенные из прессованного упаковочного картона, девятиэтажные ульи и серьёзно-игрушечные иномарки на стоянке, напоминающей свысока - если смотреть с балкона - кельтский крест! «Уууффф, хорошо! Ещё чайку!», - просишь ты. Чайник на плите постукивает, свистит (на часах – полчетвёртого ночи, все квартиры вокруг блаженно почивают), из носика вырывается душистый влажный пар. Заливаю кипятком заварку, насыпаю сахар, размешиваю, громко позвякивая ложечкой. Прихлёбываем чай, плавясь в липком поту, и говорим, говорим и говорим. О прошлом, настоящем и будущем, о стихах и музыке, прочитанных книжках и знакомых (и не очень) людях, о ВЕРЕ и БЕЗВЕРИИ. Листаем привезённые «сугубо для ознакомления» столичные литературные альманахи и тут же принимаемся изобретать невероятные стили и художественные концепции («…нет, ну ты только посмотри – это же даже круче Вербитского!»), явно воображая себя наследниками гениального скандалиста Маринетти и словенцев «Лайбах». В пять утра, когда лоскут неба, растянутый над оцепеневшим квадратом двора, становится бледно-лазоревым с нежными сусальными мазками, встречающимися, разве что, на старорусских иконах, глаза слипаются, ужасно хочется спать. С трудом обрываю возникший, было, «мозговой штурм» и предлагаю сделать перерыв до следующего дня. Стелю себе на кухне, прямо на полу (по одну сторону – фанерные ящички с луковой шелухой, по другую – раковина, заставленная грязной посудой, и уныло урчащий белесый рафинад холодильника) и, кое-как, слыша сквозь накатывающую полудрёму, как ты усердно стираешь в ванной майку, проваливаюсь в темноту. Снится всяческая чертовщина – размытые абстрактные видения-образы! Проснувшись, первым делом бреду, лениво позевывая, в зал – а вдруг прошедшая ночь мне просто-напросто померещилась, и никого не было? Нет же, нет – вот он ты, спишь себе, посапывая.
Всё-таки есть что-то необыкновенное в том, что твой друг (больше того - брат по духу!) у тебя в гостях. Он приехал издалека, ехал до того всю ночь, пытаясь поспать в жарком салоне междугороднего автобуса, и вот он здесь, всего в паре метров от тебя, за стеной.
А потом мы отправляемся в павильон закупаться продуктами для завтрака и возможного, если, конечно, никто не помешает, обеда. Дома варим пельмени, щедро поливаем их «низкокалорийным» (так написано на упаковке) розоватым майонезом и с аппетитом уминаем. Жуём сочную духмяную мясную мякоть, запивая её прохладным «Дворянским» квасом, и почему-то улыбаемся – возможно, от осознания того, что впереди ещё долгие, насыщенные эмоциями и идеями, посиделки, прогулки, беспокойные визиты трезвых (и не очень) друзей…
Но всё рано или поздно заканчивается, ибо таков закон – ночь бесследно истаивает в нарастающем ревущем ликовании Нового Дня. Во вторник вечерний десятичасовой автобус захлопывает двери, хрипло чихает карамельно-ядовитым бензиновым перегаром и, свирепо рыча, трогается с места, увозя тебя в обратном направлении. Что чувствуешь, когда твой друг уезжает? Ловишь его прощальный взгляд, добрую шутку, взмах руки. Бывает, что бросаешься вслед (пока он ещё рядом), обнимаешь и веришь, что обязательно свидишься с ним. И снова - коротенькие весточки из Интернет-салона: «Здравия, дружище! Жив, здоров… Да ничего, пока всё нормально… Приветы передавай! Пиши, не забывай!».
НАМ НЕЧЕГО БЫЛО ДЕЛИТЬ. Да и что мы могли делить, когда ВСЁ уже давно - от начала времён - пребывало в нас? Разве что искренне хотелось поделиться своим сокровенным даром со всеми, дабы искупить их и спасти, дабы УВЕРОВАЛИ они в НЕВОЗМОЖНОЕ – В САМИХ СЕБЯ. О, терпкий, терновый, искупительный кагор нашей ВЕРЫ!
Когда же автобус завернул за угол ближайшего, ещё допотопной советской постройки, грязно-жёлтого заводского здания, перетекающего в залитый огнями проспект, я будто случайно бросил взгляд на небо – там, сквозь зыбкую оранжевую кисею, сотканную из света сотен городских фонарей, проглядывали редкие, но истинно верные и пронзительно яркие, звёздочки.
Зима – Весна 2006 г.
ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВНУТРЕННЮЮ САРМАТИЮ
(Sub Specie Aeternitatis)
В полюсе спит сердце Меркурия, которое есть истинный огонь
ФИЛАЛЕТ
L'etoile a pleure rose au coeur de tes oreilles, L'infini roule blanc de la
nuque a tes reins; La mer a perle rousse a tes mammes vermeilles Et l'Homme
saigne noir a ton flanc souverain.
Артюр РЕМБО
О том, как можно получить и из чего можно получить металлическую сперму и где найти нашу Мать.
В День Грядущий, День Последний и отныне Первый, ибо он День Первый Царствия Духа Святого, когда Господь Наш Иисус Христос придёт судить нас, грешных и неразумных, я достиг отдалённых берегов Внутренней Сарматии, ибо Ангел-Хранитель страны сей благодатной и потаённой внял моим искренним горячим молитвам и указал верный путь.
Сколь долго длилось вопрошание моё? Сколь долго искал я Внутреннюю Сарматию? Никто, никто не ведает сего. Даже я, воображавший себя мудрецом. Увы, но время моё истаяло снегом, издохло под клинками лучей Рождественского Солнца.
Однажды увидел я сон – сон волшебный, странный, невозможный в мире скорби и отчаяния, сон, дарованный Меркурием нашим, сон, где Владетель Внутренней Сарматии поведал мне о Философском Ледовитом Океане. И тогда я посмел спросить его: «Где искать мне Океан сей?». Но Владетель Внутренней Сарматии лишь улыбнулся, приложил палец к безкровным губам и тихо произнёс: «В себе, о, потерянный брат мой! Молчание – ключ к горней мудрости Создателя Мира. Разве не знал ты этого? Разве не этому ты учил других?» И понял я, что забыл, растратил впустую все накопленные сокровища свои и остался ни с чем. Жалким самоуверенным паффером, тщетно ищущим Золотую Тинктуру. И только гнусавые, отвратительные пожиратели падали бешено кружились надо мной и всё кричали (о, эти крики!): «Свинец! Свинец! Свинец! Червь! Червь! Червь! Тля! Тля! Тля! Поцерфакция! Поцерфакция! Поцерфакция! Поделом тебе, шут!». Пробуждение же моё было столь ужасным, что жилище моё обрушилось в гниющую бездну Гадеса и влажная, блудливая Праматерь-Гея (о, целительные соки лона её!!!) вобрала меня. Разве не было сказано: «Тёмное надо познавать ещё более тёмным, а неизвестное ещё более неизвестным?» И я вошёл во тьму и сама владычица первородных мерзостей и богохульных таинств Дева-Геката, Королева Милостивой Поцерфакции и Арканы Полярной Ночи сделала меня своим любовником. И я верно, преданно любил её, но пламя любви моё быстро зачахло (ведь время моё истаяло снегом). И я изгнил до углей, до мертвенной пыли в затхлом лоне её, откуда текли болотные воды. Оставшиеся же кости мои бросили на съедение голодным лярвам-трупоедам на фиолетово-пепельных кромешных брегах Флегетона, струящего свои зловещие непрозрачные воды от кристального Норда Гелиодеи к раскалённому Зюйду Антихтониуса. Но дух мой был ещё жив и метался в ночной пустоте среди стенающих отверженных теней Гадеса.
Но в час, когда благостный Арктур, Пентаграмма Летнего Арктоса, Звезда Древнего Льда и его Порождений, в час, когда Ангелы у Престола славят Господа Нашего, взошла на небосклоне, сияющий Ангел Фуле вывел меня из слепой тьмы на свет божий. Он был холоднее всего, что я знал. И он же был горяч, будто это был огонь в кузнечном горне. Когда я увидел его, то был удивлён: «Мне ведомы имена многих Ангелов Господних, но тебя, о, Ангел, я вижу впервые. Я записал эти имена на скрижалях благой Мудрости, дабы заручиться их помощью. Сам Гермес Триждывеличайший, Психопомп-Проводник в Царства Иные, открыл мне секреты и тайны Прошлых, Нынешних и Грядущих Вселенных. Кто же ты, о, Ангел–Спаситель мой?». И Ангел Фуле дал мне ответ: «Я тот, кто дарует жизнь. Разве не мёртв ты? Разве не изгнила старческая плоть твоя до самых углей – но разве будут гореть они? Разве кости твои не изгрызли прожорливые лярвы на безрадостных брегах Флегетона – но разве можно ими насытиться? Помнишь ли ты ещё это?» И тогда зарыдал я, ибо память – предательская, неверная память - вернулась ко мне. И были слезы мои горькой морскою водой. О, память, предательская память, почему, почему мы помним о том, во имя чего недостойно продолжать жить?
Ответив, Ангел Фуле показал мне млечное озеро, где обуглено-чёрное, хрупкое, безжизненное становится молочно-белым, точно нежная бархатная кожа девственницы, готовой к постригу, чтобы затем, через мгновение, длящееся века, стать царственно красным, налиться до краёв священным пурпуром причастного вина.
Когда брёл я к озеру, то каменный снег - никогда прежде я не видел такого снега -обжигал мне голые ступни, а лютый мороз, страшнее которого ничего не может быть, даже погибельная грюнландская стужа, сковывал все члены. И путь мой был столь долгим, что за это время успели смениться многие поколения. Ангел Фуле показывал мне гибель и рождение царств и империй, жизнь и смерть целых народов – ныне никто не помнит имён их. Я же лишь терпеливо внимал его речам, смотрел и удивлялся. «Всё возвращается. Знай же, о, потерянный брат мой - вернутся и они», - однажды услышал я. Но кто произнес слова эти?
Когда же вошёл я в воды млечного озера, то вскрикнул от жгучей боли. Что ещё может сравниться с нею? «Хвала, хвала, хвала Господу нашему Иисусу Христу! Угли твои растворяются, и прах вновь обретает форму. Скоро Дух твой найдёт более прочное вместилище для себя. Возрадуйся же, о, потерянный брат мой. Сосуд твой да будет наполнен!», - воскликнул Ангел Фуле. Когда же млеко захлестнуло меня по самое горло, дно неожиданно исчезло, ушло из-под ног, и я стал тонуть, погружаясь с каждой секундой всё глубже и глубже. Отчаянно барахтаясь и пытаясь выплыть, мне стало ясно, что это просто невозможно, ибо млеко превратилось в густую, комковатую жижу. «Знай, о, потерянный брат мой - у этого озера никогда не было дна! Так почему же ты не утонул сразу? Ведь ты, неверующий, достиг середины озера!», - сказав так, Ангел Фуле окунул меня во млеко вместе с головой. И тут я ощутил сладость, наполнившую меня всего – всё, вплоть до самых наимельчайших корпускул. Но голос вернул меня из топкого небытия. И возвращение было благостным. «Возрадуйся! Отныне сосуд твой наполнен». Но я уже не слышал Ангела моего. Другой, такой знакомый и близкий, голос шептал мне: «Помнишь ли, о, потерянный брат мой - Молчание – ключ к небесной мудрости Создателя Мира? Теперь я проведу тебя в Нашу Внутреннюю Сарматию, где Император Сарматии, Гольтескифланда и Остервега-Тартарии, Супериор Инконню Гросс Рабенланда, Хранитель Ключа и Истинный Отец Нашего Братства, Князь Сандакшатр видит сны о Минувшем (да благословенно оно!), Настоящем (да благословенно оно!) и Грядущем (да благословенно оно!)!». «Значит, ты не забыл меня, о, Отец мой, Владетель Внутренней Сарматии?», - спросил я. «Нет же, нет, о, потерянный брат мой… Жду тебя!», - было мне ответом, коего я ждал всё своё небытие…
И тогда Ангел Фуле извлек меня из млечного озера и вручил тайные знаки, полученные им от самого Господа Нашего Иисуса Христа. Но поначалу я устрашился и отверг дар сей святой: «Разве достоин я знаков сих, о, Ангел-Спаситель мой?». «Не бойся, не бойся, о, потерянный брат мой… И не смей бояться! Страх есть начало падения во мрак, в пасть Аида, к бесплотным мстительным призракам летейским, проклятым Богом! Так бери же и не бойся. Следуй избранным путем Шкипера Философского Ледовитого Океана, о, потерянный брат мой! Ныне я отпускаю тебя…», - промолвил он. И он вывел меня на тракт и указал путь мечом пламенным, коим Ангел Господень изгнал Адама и Еву после грехопадения из Райского сада Эдемского. Не он ли был им, мой Ангел-Спаситель - Ангел Фуле? Ангел Карающий и Ангел Милостивый.
И вот истаял алмазный камень нетленных снегов, и обнажилось кровавое воющее мясо. И на цветниках арктических (сказано – их нет и в помине!) взошли невиданные цветы. И чьи-то неистово-безумные, полные отчаяния и неземной скорби крики носились над выветренными равнинами, облачённые в погребальный пеплос смертей.
Я полюбил пустыню, сожжённые сады, выцветшие лавки торговцев, тепловатые напитки. Я медленно брёл по вонючим улочкам и, закрыв глаза, предлагал себя в жертву солнцу, этому богу огня (Артюр РЕМБО)
СУМЕРКИ ЧЕТВЁРТОГО РИМА
…and when Rome falls
falls the world
CURRENT 93 «Rome for Douglas P.
»
а над нашим домом есть в небе дыра,
сквозь неё в нас падают смерти кристаллы…
Кирилл РЫБЬЯКОВ
1. Сатурн в зените! Как странно, милая... В небе моём больше не видно звёзд. Слепо. Невесомо. Птичье парение над выжженными руслами Иордана и Флегетона. С привкусом перебродившего монгольского кумыса, разбавленного для пущей остроты осязания пряной лошадиной кровью, выпущенной из яремной вены заговорённого коня Чингисхана. Изумрудная глазница Алголя нелепо скалится из гренландской пустоты Вриля. Резко выбрасываю вперёд правую ладонь. Стискиваю пальцы. Ускользает. Сливается в мраморное великолепие свастичных узоров и, после непродолжительной паузы, разворачивается в кельтскую мандалу Святого Брендана. Дзен-созерцание. Вторжение в потаённую сердцевину химерического Валькнута времён прошедшей Кали-Юги. Господь ослепил меня, дабы воочию, незамутнённым взором, узрел я истые Сумерки Четвёртого Рима. Где Храм мой, по каким бездонным снегам брести мне, где искать его? Как странно, милая... Сатурн в зените! Неумолимый косарь под барабанный грохот со свистом срезает спелые мясистые колосья, беременные зерном. Руки бережно укладывают их в снопы. Жарко. Великая Сушь. Великий Полдень. Раскалённое солнечное бельмо, распятое в графитной вышине, иссушило нутро. Нутро сгорает в июльском чаду. Так и хочется остудить его свежей колодезной водицей… Но где искать колодец? Сумерки Четвёртого Рима… В самом разгаре мировой агонии!
2. Сатурн в зените! Как странно, милая. В твоем биомеханическом бандаже есть нечто такое, что заставляет исходить слезами, кровью, потом и слизью. То, от чего сумеречно внутри, и вязкий, фиолетово-чернильный океанский ужас (Мать его Тиамту! Отец его Мумму!) захватывает всю твою невыносимо-окаянную сущность. Кто её создал и ради чего? Кто изрыгнул её на заботливые руки той, что некогда матерью звалась твоей? Воистину, ты, милая моя, царственная Горгона во плоти, явившаяся на свет сей в обличье Праматери-Богини – Всемилостивой и Беспощадной. О, как я обожаю тебя! О, как я желаю тебя! Так приди ко мне! Ты смотришь на меня, милая, а я каменею, точно ссыльный небожитель какой-то, случайно оказавшийся на ложе твоём в наказание. Но разве может быть наказанием то, ради чего миллионы идут на ласковый суицид? В бесконечно-стальных очах твоих таятся Ночная Сторона Высшего Бытия. Всё-таки как странно и божественно ласкать тебя, постепенно погружаясь в твою мягкую, губчатую, влажно-тёплую татуированную плоть. Как странно проводить ладонью по лайковой коже высоких, хромово-чёрных сапог или ощущать на губах пахучую корицу металла, пронзающего створки лона твоего. Но кто, кто откроет его? Кому удастся изведать аркану мрака античного Тартара, где ворочаются осклизлые монструозные лярвы, и породить ещё один мирок, дать ему шанс на более-менее безопасное существование под чьим-то неусыпным взором? Когда тебя извлекли из чрева Той, О Ком Не Говорят, ибо Первородный Хаос имя её, в иссеченных ливнями и ветрами стрельчатых башнях Небесного Нюрнберга неизменно молчаливые архонты, чьих глаз никогда не увидеть через прорези позолоченных масок, испуганно шептались: «Кто прикоснётся к ней? Кто посмеет? Кому суждено сие? Кого насытит она?». А после уходили в свои тесные, смердящие экскрементами, мрачные каморки, откуда слышалось сбивчивое бормотание рунических неошумерских мантр и церковное гудение генераторов Ван Дер Граафа. Когда же, по истечении долгих ритуальных часов, наступало бессилие DOR и тусклое покойницкое сияние заливало всё вокруг, они впадали в коматозное состояние – как мотыльки накануне умерщвления или строгие готические статуи, намертво вросшие в северное осеннее побережье – и замирали. Кому-то не везло, и он не просыпался. Сны уводили, завлекали его в неведомом направлении. Спящий спотыкался, падал и летел, летел, летел. Вернулся обратно один. Ему повезло. Но он ничего не мог рассказать – всё беззвучно плакал и судорожно стискивал непослушными одеревеневшими пальцами край шершавого больничного одеяла. Его поместили в стерильное Чистилище, но Дух его был уже далеко отсюда. Ничто не спасло его – ни белоснежные кафельные стены, ни Нюрнбергский, Заговоренный Капеллами Святых Угодников, Иконостас в углу, ни коллективное пение мантр с курением ладана и мирра, ни даже забота милых и внимательных дамочек-сиделок в накрахмаленном кружевном белье, готовых на всё – даже на самоистязания во славу Матери Снежной Мечеликой, Чьё Чело Увенчано Пунцовым Гаммадионом (у них даже и плети с наручниками были заготовлены с кучей хитроумных медицинских приспособлений для «особо пикантных игр»!). Разве что кому-то удалось разглядеть в его трагически угасающих (и ужасающих, о, боги, боги!) зрачках призрак неведомой, ещё не рождённой Вселенной.
Сатурн в зените! Как странно, милая. И мне суждено то же. Потому я страстно прижимаюсь к тебе и отчаянно силюсь не спятить от осознания того, что творю. И молю Спасителя простить меня и наставить на путь истинный, дабы не сойти с ума. Глубокие шрамы на спине нестерпимо саднят и кровоточат, изодранные в кровь лезвиями твоих отточенных ногтей. Стискиваю зубы, закрываю глаза, и продвигаюсь всё дальше и дальше, до логического окончания того, что затянуто в хрустящую кожу, тугие ремни, шипы и слепящий хромированный металл. Но усилия мои напрасны. И как же больно осмысливать это. А ты ласково шепчешь мне на ухо: «Ещё! Ещё! Ещё!» и, урча от сладострастной неги, целуешь в шею, а затем всё ниже и ниже, вплоть до полного изнеможения. Металлический лёд раскалёнными остриями прожигает насквозь.
Сатурн в зените! Как заведённый механический болванчик из декадентско-индустриальной коллекции Тревора Брауна “Pretty Hate Maschine” (я никогда не забуду тот прощальный поцелуй на грани металла и плоти – но кто это был, КОМУ ОНА подарила его под свирепствующее noise-адажио (разве что породистым манга-марионеткам с синтетическими причёсками)?) я нелепо бормочу: «Нет! Нет! Нет! Не возьмёшь!». Но тебе всё равно и ты внезапно заглатываешь меня, вбираешь беспомощно барахтающееся, перепуганное младенческое тельце – мерзостно-мокренькое от постоянных выделений. Щека как бы случайно прижимается к внутренней стороне нагого скользкого бедра и упирается выше. Влага – о, девственно-молочная, медовая влага, бесценная, очистительная амброзия! - заливает глаза. Невозможно видеть. Невозможно дышать. Можно только плыть, плыть и плыть. Кажется, меня научили этому. Надо только вспомнить. Нужно только поверить. А потом удар. Толчок. Ещё толчок. И, под конец, острая, пронзающая нервные окончания хирургическим ланцетом, боль. А ты, милая моя, всё издевательски хохочешь да приговариваешь: «Ну что? Разве я не хороша? Поймала я тебя, проглотила? И ведь переварю тебя, сделаю удобрением для урожайных полей своих, дабы породили они жито кровавое. Все там будете, ибо сами сотворили меня на погибель себе». Жутко. И кричать, и орать хочется… Но язык дохлой высушенной мухой пристыл к нёбу. Сознание постепенно покидает меня, и вижу я небесно-чистое существо – не существо даже, а фарфоровую куколку из рождественских грёз с грецкими орехами, конфетами и ватным Дедом Морозом - с огромными, неестественно доверчивыми, васильковым глазёнками. Тянет оно ручонки – пальчики крохотные с розоватыми ноготками - ко мне и щебечет: «Спаси меня! Спаси! Больно мне!». Но что я сделать то могу, когда сам издыхаю в плену и участь моя незавидная – стать удобрением на полях милой моей? Спрашиваю я тебя: «Кто ты, кроха? Отчего страшно тебе? Кто испугал тебя?». Отвечает она, искрясь смехом детским и наивным: «Так мама я твоя… Неужели не узнал? Ээээх, глупышка!!! Это я выпестовала тебя и уму-разуму научила. И на кого ты променял меня? На умертвие Вавилонское? Танцы её распутные купили тебя? Плечи, живот, груди и бёдра помутили рассудок? Или позабыл, КАКУЮ награду потребовала ненасытная стервоза Саломея, чьё брюхо источало болотный гной проказы? ЧЕГО РАДИ?».
Молчание. Пустота. Следующий прыжок ещё более болезненно-жуток. Ощущения незнакомые. Чьи-то сахарно-сальные, с тошнотворным парафиновым привкусом, губы прикасаются к струпьям язв на моих губах. В душной мгле ревёт, рубит, неистовствует gabba-hardcore, в лазерном пандемониуме извиваются липкие суккубы, покачивая необъятными бёдрами… Вызывающе изукрашенные неоново-люминесцентные тела слились в пористую податливую массу – суетную, стонущую, совокупляющуюся, захлебывающуюся в экстазе, перенасыщенном оргазмами. Два звероподобных сиамских близнеца-суккуба, радикально изуродованных пирсингом, похотливо облизывают друг друга. Я вижу, как они целуются взасос, рот в рот. Какие-то перепончатокрылые с истерическим визгом взмывают ввысь и проваливаются в мускусную дымку, откуда выпадает высосанный кожаный мешок, набитый костьми. Прочь! Прочь! Свят! Свят! Свят! Муэдзин в противоестественном поливинилхлоридном халате тягуче подвывает под суфийские напевы “Hammam Jackal” бесноватого техно-дервиша Брина Джонса. Суккубы продолжают лизаться. Одна из сестёр запрокинула голову и высунула наружу язычок, прошитый насквозь крохотными бубенчиками. Сумерки Четвёртого Рима. Господи, Господи, почему я вижу ВСЁ ЭТО? Ослепи меня и не дай сгинуть. Прочь, прочь отсюда! Но выхода нет – все двери заперты намертво. Тычусь то в одну, то в другую, то в третью… Куда? Ловушка чересчур изысканна и совершенна. Сиамские сестры-суккубы вдруг поворачивают головы ко мне и истошно вопят: «Куда ты? Куда ты, тля человеческая? Отныне это Родина твоя… К нам! К нам! К нам!». В Сумерках Четвёртого Рима, в самом разгаре мировой агонии…
Вскрикиваю и пробуждаюсь. Но вокруг лишь провинциальная дремучая тьма заброшенной кельи на заводской окраине Небесного Нюрнберга (как раз за Иерихонским Порталом напротив Гоморрианской Клоаки, где постоянно происходят глобальный Trancefloor и шумные содомские оргии на любовно запрограммированных пентаграммах с последними Soft-обновлениями) и ещё не застывшая кровь на грязной наволочке, провонявшей мочой и вездесущими садистами-клопами. Забыться, как можно скорее забыться и спать, спать, спать. Карающий Отче Полярного Сталинграда, Князь Сокрушающего Меча и Молота, Воевода Горней Рати, гряди, гряди и дай силы мне уснуть! Матерь Снежная Мечеликая, Чьё Чело Увенчано Пунцовым Гаммадионом, смежи, сомкни очи мои распутные, нашли медных воронов и бронзовых орлов, дабы выклевали они их! Отныне забыл я Вас, о, юные невинные боги! Чужая стала мне невестой и возлюбленной. Я видел её рождение. Я любил её. Вечно и огненно – так никто не может, ибо немощны члены его! И я же стал удобрением на полях её. Помню благой миг сей, когда она, милая моя, выплеснула меня из драгоценного писсуара, украшенного яшмой, топазами и рубинами. Да восславится небытие мое!!! Да прорастёт сквозь нечистый прах мой жито кровавое!!!
Сатурн в зените! Как странно, милая. Где ты, где ты, о, чудное видение? Я соскучился по твоему соблазнительному биомеханическому бандажу и начищенным до блеска сапогам, чьи голенища и высокие каблуки я готов покрывать жгучими рабскими поцелуями. Так распни меня на пыточном ложе своём, застеленном бархатом и роскошными заморскими мехами, и убей бесовскою страстью своей!!! Не буду сопротивляться, ибо ожидаю сего мгновения и слезоточу слезами счастливыми! И скулить не буду, и умирать буду торжественно и спокойно, с тевтонской арией Лоэнгрина на устах, ибо ЗАСЛУЖИЛ, ибо ПРЕДАЛ! Вскрой грудь мою прохладным ланцетом, распили грудную клетку, с хрустом разломи рёбра, и выдерни, вырви трепещущее, пока ещё живое, сердце моё. Я достоин тебя, милая!!! Я достоин тебя, милая!!! Я достоин тебя, милая!!! Я достоин тебя, милая!!! Я достоин тебя, милая!!! Я достоин тебя, милая!!! Я достоин тебя, милая!!! Я достоин тебя, милая!!! Я достоин тебя, милая!!! Я достоин тебя, милая!!! Я достоин тебя, милая!!! …
3. Сатурн в зените! Как странно, милая. А ведь нашёл таки – вот заветный Храм мой утопает в пекельных снегах серых. Зима в Преисподней, привидевшаяся в самом разгаре мировой агонии! Стена закопчённая. Хаотичное кирпичное крошево в сугробах. Смятый каркас купола с оплавленным крестом, скрученным в причудливый узел. К счастью, метель утихла, но снег всё равно порхает в недвижимом, морозном воздухе. Дохнуло инеем, заглянуло под латаный ворот шинели, пробежало по ногам и заледенило пальцы. Стискиваю брезентовый подсумок, где спрятана горсть бульонных кубиков (голодная норма на трое суток), пластиковая бутылка с водой, заткнутая тряпицей вместо пробки, антидоты (бесполезная трата противоядия – меня уже ничто не спасёт, плоть постепенно и неотвратимо отмирает, отваливаясь кусками от желтеющего костяка – я перестал быть человеком, ибо теперешнее моё состояние – труп!), бурый обрывок бинта и истрепанный молитвенник без обложки. Чьи-то суровые глаза внимательно наблюдают за мной, неслышно крадутся следом: «Кто он? Как посмел явиться сюда? Ведь он же мёртв! Дохлятина! Падаль! Дохлятина! Падаль!». Отгоняю от себя дурные мысли троекратным крестным знамением: «Свят! Свят! Свят!». И тут понимаю, что со стены, сквозь непроницаемо-шоколадную патину копоти и сажи, на меня смотрит ТОТ, КОГО Я ТЩЕТНО ИСКАЛ. Господь Мой, Господь Пантократор, Господь Третьего Пришествия, Зодчий Пятого Рима, ты ли это? Ты ли это с мечом пламенеющим и АКМ-ом в десницах? Тебя ли я заклинал на нижнем ярусе бункера, переполненном человеческой трухой? Тебя ли я искал и вот, наконец-то, обрёл на промёрзших Дорогах Изгнания? Раны твои Голгофские вновь кровенеют, но разве видим мы сие? Ветер, ветер, лишь чёрный рыдающий ветер в пустых глазницах наших… И души наши вечно мучаются в тисках нечестивого безъязыкого Безъверия. Припоминаю что-то похожее на молитву или псалом, но слова ускользают, рушатся, смысл путается, свивается в труднопонимаемый клубок из символов, знаков и неизъяснимых значений – в издыхающей прокаженной памяти истлевает призрак святого, исконного, впитавшегося с материнским млеком. Откуда-то из незрячего «ниоткуда» всплывает: «Когда взойдет на тебя лукавая мысль; извлеки меч свой, то есть возставь в сердцах страх Божий, - и посечёшь всю силу вражию. А вместо воинской трубы употребляй Божие Писание. Как труба звуком своим собирает воинов, так и Божие писание, взывая к нам, собирает благие помыслы, и, приведя их в строй страхом Божиим, составляет из них полк в противоборство врагу: ибо помыслы наши, подобно воинам, сражаются с врагами Царя». Но нема душа - серо и сиро окрест. Ветер, ветер, чёрный ветер. Снег кружится, летает, летает и беззвучно опадает.
Сатурн в зените! Как странно, милая.
Декабрь 2005 г.
ОКТЯБРЬСКИЙ URBANIB (:der verfluchte engel:)
(мАнархический нойз-металингвистический этюд)
Безопасная игрушечность исчезла из них навсегда…
Алина ВИТУХНОВСКАЯ
Let's go swimming in a genecide!
FRONT 242 “Genecide”
1] im rhythmus bleiben
im rhythmus bleiben…
И если в твоём видении неожиданно, хотя так и должно было случиться, проявляется красно-чёрная фигура – значит, что-то произойдёт в мире сём, ибо недолго ему, ибо грядёт некто могущественный, справедливый и светоносный, дабы завершить его изначально проклятый цикл… Киноварь-Rubedo – рубиново-кровавое, застывшее липкой густой массой старого засахарившегося варенья на уродливой плотской органике, упакованной в мешок из болезненной наждачной кожи, поражённой бляшками лишаев и полянами прыщей. Литургия, завершённая в карминных гуашевых тонах, когда звуки расплываются и, наконец, сливаются в некую осатанелую ремикс-версию, где высокие - Hi-Fi - частоты ретиво нападают на низкие - Lo-Fi - гудящие басы, а потом микшируются в ритмичный индустриальный нойз. Разве не ведал ты, что всё известное «бытие» твоё – не более чем сплошной безпросветный нойз? Нойз, как евангелическая максима Альфа и Омега, чьи верные Апостолы тронулись рассудком, будучи не в силах осознать факт богопредательства вверенной им новообращённой паствы.
im rhythmus bleiben…
И тогда :der verfluchte engel: покинет сердцевину web-небес, чья тугая нейронная плащаница однажды разорвётся, дабы обнажить вшиво ухмыляющегося князька-кукловода ныне обозримого пародийного обмана, чьи оттиски-симулякры искусно, вплоть до неприметной микроны, копируют друг друга. И окаянный электронный глас его будет пронзительно страшен в своём торжестве. Невообразимо-странная – в ней было что-то от гравюр Дюрера вперемежку с гениальными биомеханическими кошмарами Гигера - икона, ожившая в начале пряно-холодного Октябрьского Urbanib. Тогда в умирающем лесу, где обычно производились экзекуции и расстрелы, тихо опадали золотисто-кофейные и свинцово-червлёные резные листья из тонкого листового металла, складываясь в хаотичные витражи и алгебраические множественности, в коих оживали магические фигуры и силуэты, как будто покинувшие потемневшие пергаментные листы какого-то запретного алхимического трактата – то ли Атанасиуса Кирхера, а то и самого Арне Сакнуссена.
im rhythmus bleiben…
Вспыхнет, взвоет и раскалится атомными вспышками, а потом угаснет и захрустит радиоактивным стеклом некрополей, над коими :der verfluchte engel: сотворит крестное знамение, дабы приготовить обезумевший от боли и страданий прах к Третьему Пришествию.
im rhythmus bleiben…
ende…
2] B-Mashina
Господь мой, Господь Милосердный, Господь Утешающий, так сокруши нас, сотри в первородную пыль, дабы восстали мы из тьмы непроглядной, тьмы истребляющей, тьмы нетленной царственными солнечными машинами, в чьих жилах и венах струится, пульсирует, бурлит живая кровь Новейшего Завета! О, сколь широки и безбрежны потоки сии, проистекающие из незримого – schwarz-ist-schwarz-schwarzer – неподвижного центра Полярного Креста, где созидаются Правда и Вера ещё нерождённого мiра, кой мы бережно несём в ладонях, дабы спасти его от взглядов, нарисованных каким-то неумёхой-художником с несомненно дегенеративными наклонностями! О, сколь глубоки и опасны воды сии, где трепетный и беззащитный огонёк души твоей очищается от затхлой биологической тины конвейерных страстей, продающихся, как правило, в надёжных вакуумных упаковках – оптом и в розницу!
…Где пряди стекловолоконной паутины опутывают ужасающе мёртвую пустоту цилиндров-батареек некогда непоколебимых небожителей…
…Где мутная ржавая жижа медно оседает на шершаво-грязный панцирь поливинилхлоридного дна и забивает все его поры и трещины…
…Где случайный взгляд фотоэлемента уловил чей-то безформенный – явно сконструированный из безсмысленного набора деталей органического конструктора - костяк, пронзённый острыми шипами, отлитыми из суперпрочного высокотехнологического сплава, одобренного Министерствами Обороны Небес и Преисподней…
…Где пикантно-вкусные цианидовые циклоны доносят до сонных коробчатых кварталов, замкнутых в загаженных KZ-сфероидах, слащавый формалиновый запах вселенского распада, ибо Судия в строгом, тщательно выглаженном, инквизиторском мундире с грозами на петлицах не обещает быть милостивым и приторно-добрым, ибо пространные и неискренние мгновения «общедоступной» Эры Милосердия истекли…
…Где тяжело скрипит, с трудом поворачиваясь на плохо смазанных петлях, и глухо хлопает тяжеленная бункерная дверь, а по бетонным ступеням, отдаваясь протяжным эхом, щелкают новенькие сапоги, начищенные до зеркального блеска, где отражаются взгляды потенциальных жертв, объявленных имперским декретом «злейшими врагами времени и пространства»…
В тлеющей плазме монитора неоново вспыхивает контур :der verfluchte engel:, чертящий гамматические синусоиды люминесцентных рун и гальдрастафов. И так до скончания секунд, кои высыпаются отравленными песчинками из позеленевшего бутылочного пластика хронометра! Стёртые клавиши автоматически, словно это механический андроид, с тупым профессионализмом наигрывающий пьесы Филиппа Гласса на расстроенном фортепиано, выстукивают, выбивают, чеканят ряды, строчки и колонки букв, цифр и условных обозначений, дабы соединиться в некое видимое и осязаемое подобие Откровения, из коего будет ясно только одно – «владычество вечное, которое не прейдёт» (Дан. 7, 14).
3] Genecide [Ad Noiseam]
Ad Noiseam
Геноцидальное, впрочем, не лишённое некоторой художественной изящности, предназначенное исключительно для публичного показа в урбанистической перформанс-галерее, где палитра из разрозненных ощущений, красок, вкусов и звуков смешается в непроницаемый шумовой коктейль, разрывающий барабанные перепонки податливых и покорных масс, чья исконная участь очевидна…
Ad Noiseam
Оргонные облачка, чья амальгама загадочно светится изнутри, проливаются нейтринными дождичками на романтичные осенние гудронные пустоши и треплют травяные космы лагерной колючей проволоки. В самом эпицентре ненастья, где петли неистовствующих торнадо сжимают цыплячьи шеи континентов (совсем как в неумных выкладках господ геополитиков!), длани Пантократора талантливо и любовно созидают Новое и Вечное…
Ad Noiseam
Дизельно грохочет танковыми клиньями, выдыхая жжёную масляную горечь машин, фосфорно слепит фарами и прожекторами, по-собачьи завывает гарнизонными сиренами, сминает ребристыми гусеничными траками озимых насельников комковатого гумуса, чьи клеточные структуры распадаются на бессчетные биллионы биллионов в степени, помноженной на число «пи», белковых составляющих…
Ad Noiseam
Истерическая реальности :der verfluchte engel:, фанатично, но, к большому сожалению, тщетно, пытающаяся реанимировать костную субстанцию, чей ангелический Третий Свет по чьему-то недосмотру выгорел дотла и, таки, умудрился улетучится в web-вакуум…
Ad Noiseam
Припадочная агония аудио-полигональных плоскостей, поверхностей и плацдармов, где беснуются, насекомообразно вереща, игольчатые инсектоиды-радиопомехи и кипят моря «белого шума», сквозь пелену коего просачивается невинный детский голосок, старательно, чтобы вдруг ненароком не ошибиться, выговаривающий незатейливую считалочку: «Раз, два, три, четыре, пять – ныне время умирать!»…
Ad Noiseam
Официальная версия нашего совершенного в своём недостижимом совершенстве Абсолютного Суицида вряд ли будет оглашена проституированными масс-медиа, ибо в невозможной для сего климатического отрезка года тишине опустевших шоссе и хайвэев Октябрьского Urbanib* Господь больше не слышит нас – отныне и навсегда «последних»…
Stand up, you electronic insect
Stand up, you electronic force…
im rhythmus bleiben…
ende…
*“Urbanib” – одноимённая «техногенно-индустриальная» пьеса
экспериментального ритм-н-нойз проекта Imminent Starvation
Осень 2006 г.
ВЕЛИКОЕ ПРЕДЗИМЬЕ
(Апокалипсис Скорбящего Ангела)
Embrace me my angel, who's eyes enlightens my world.
И вот Ангел Скорбящий, чьё убогое рубище выкрашено в камуфляж позднего провинциального вечера, спустился в осенний мiр сей, где промерзшая до леденцовой прозрачности коричная листва скрывала мистерии некогда безсмертных мгновений, кои определяли смысл Сущего, дарованного свыше. Но кто помнит о том? Куда скрылись смуглые от загара волхвы и кроткие мироносицы? Кто ныне вздымает ввысь хоругви? Увы, когда затхлые стариковские туманы незаметно вторглись в вознесённые храмы наши и тучи, словно пошитые из колючей тюремной мешковины, сокрыли истинный облик небесный, даже память может трижды отречься от тебя и преподнести неожиданный сюрприз, способный погубить неосторожного смельчака, осмелившегося разгадать его настоящее предназначение. И вот снова хлебные нивы опустошены, а в полуголых рощицах, чей стриптиз нелеп и бесстыден, обретаются сумерки Великого Предзимья, отяжелевшие от дымного чада мiровых пожарищ. Свершилось! И будет долгая, долгая Охота в неопрятных зарослях орешника и шиповника, истлевших от промозглой сырости. Почти опавшие дубы всё так же неподвижны и молчаливы накануне первого снегопада, а клёны всё ещё пытаются защититься от простуженного кашля ночного ветра, срывающего оливково-жёлто-красную пестрядь жалких отрепьев… Но тщетно, тщетно… Невозможно… Ведь что-то грядёт…
Что ищешь ты, Ангел Скорбящий? Зачем ты здесь? О чём ты хочешь нас предупредить? О том, что терпению Божьему настал конец, и он, после долговременных раздумий и наблюдений, избрал Час Заката, дабы сбылись чьи-то речения и пророчества? Разве что-то переменилось в нас? Хотя бы на самую малую толику? Неужели так ничему и не научились? О, нет же, нет! Мы всё так же смешны в первозданной глупости своей, ибо ринулись изобретать «благопристойные» заменители Священного, дабы спастись с их помощью и выбраться на, как будто, желанный берег грёз и свершений, где «кто-то» с ликом прекрасным, лишённым малейших изъянов, отрёт счастливые слёзы наши, да ещё и вознаградит «братским» поцелуем, чья кремовая сладость сравнима с привкусом цикуты в винной чаше. О, сколь же смешны мы в первозданной глупости своей! Великое Предзимье – предчувствие безсонных литургических бдений и страшных посмертных откровений у изголовья умирающего, чьё имя не было названо, ибо уже никто не помнил его. Съёжившиеся окрестности утопают в жидком свинце, заоблачные тракты пустынны, а где-то там, внизу, в распахнутых погребах дворов испуганно мечутся лоскуты неживых теней, растворяющиеся в подъездах и подворотнях. Видимо что-то грядёт, и привычное состояние вещей нарушится, распадётся…
Как холодна и одинока земля, терпеливо ожидающая снегоявление… Чувствуешь ли ты это, Ангел Скорбящий, когда обнаженные подошвы твои осторожно ступают по ней? Ведь осталось ждать всего ничего… Возможно, это произойдёт на рассвете, может быть даже днём или ближе к ночи. Просто однажды наступит Тишина… Тишина Великого Предзимья – мерная поступь белых метельных всадников, чьи мраморные лики неулыбчивы и мертвенно бледны, а глас оглушает благим молчанием. Куда лежит путь их? Услышат ли они вопль твой – бывшего весеннего небожителя, вдруг осознавшего себя узником в скорлупе инфернальной химеры? Да, что-то грядёт…
Так что же ты хотел сказать нам, Ангел Скорбящий, блуждавший где-то здесь, среди нас, в мiре осеннем? Кажется, я совсем недавно, буквально на днях, видел тебя, когда возвращался домой, шагая по импровизированной дороге, Бог знает кем проложенной через лабиринты новостроек (скрипели башенные краны, матерились рабочие, вонюче чавкала грязь)… Паруса твоих крыльев поникли и стали иссиня-черны от горя и пепла, а взгляд… Выдержим ли мы его, когда душа нестерпимо жаждет снега и света? Жаждет Белого. Чистого. Вечного…
И вот снежинка обожгла обугленную ладонь, оставив на ней частичку Потаённого и Нездешнего…
Осень 2006 года, накануне Самхайна
БУДЕТ СНЕГ КАК ПРИЧАСТНОЕ БРАШНО…
Тягчайшей тенью мiр обременен.
Где утешенье? где предел печали?
Эзра ПАУНД
Да будет прервана твоя людская речь
Игрою Королевского Искусства.
Сергей ЯШИН
Сергей ЯШИН. ДЕНДИ НОРДА. – М.: Опричное Братство св. преп. Иосифа Волоцкого, 2005. – 112с.
Рецензировать поэтический сборник замечательного русского консервативно-революционного поэта и публициста Сергея Александровича Яшина – занятие сверх неблагодарное, поскольку невозможно дать объективный анализ тому, что приходит, притекает в наш «осязаемый» и «видимый» мiр из Иных, недоступных прожорливым материалистическим химерам, высей, где вечно светит Солнце Живых - Солнце Непобедимое–Sol Invictus - и звучат солнечные органы, славящие торжество Королевской Свадьбы («Земля и Солнце вновь вступают в брак»). Конечно же, можно важно, с видом «беспристрастного литературного критика», поразмышлять о поэтических формах, ритме и стилистической схожести с тем или иным зарубежным или отечественным «мэтром». Или «упрекнуть» автора в «несовершенстве» («а вот тут у Вас рифма похрамывает… Как же Вы так, а?») и, под конец, окончательно «добить» его высокопарной «менторской» фразой о «Вашей полной несостоятельности в качестве поэта». Для подобных мерзостных «шабашей литературных мертвобрёхов» Сергей Яшин не просто «неудобен» и «эпатажно-дерзок» - он страшен, он беспощаден, он тоталитарен. Потому что покусился на чьи-то синтетические «святыни», сляпанные на скорую руку из дешёвенького папье-маше и аляповато размалёванные, потому что дал «право на оружие» всем тем, кто в монастырской тьме катакомб готовит Последнюю Опричную Революцию! Потому что стихи Сергея Александровича грохочут штурмовыми барабанами, серебряно трубят боевыми горнами, ревут восторженными победными криками и отдаются топотом подкованных сапог ангельских когорт, марширующих под воинственные пьесы “Praetorianer”, “Through Sun And Steel Transforming” и “Hornissesang & Feuersturm” германских индустриальных милитаристов Von Thronstahl. Откуда Вы вторглись в наши «оккупационные ультрафиолетовые кошмары», из каких немыслимых «далёких далей», рука какого «железного кондотьера» направила Вас? Но уж точно не из «этой реальности», где «режим реального садо-мазо» (изумительный эпитет, уничтожающе характеризующий современную эпоху!) стал обыденной, до ленивой зевоты, нормой. Книга стихов Алексея Алексеевича Широпаева – также мощная творческая инициатива Опричного Братства - имеет весьма примечательный, знаковый и удивительно верный заголовок - «Поиск Сети». Опричные поэты – это «арт-партизаны», «культурные террористы», «диггеры в глухих подвалах страха» и адепты «духовного геноцида» в дьявольской паутине глобальной постчеловеческой Матрицы, терпеливо выискивающие среди покорившегося, бесформенного, обездвиженного «праха сожжённых поколений» тех, в ком ещё сохранилась оживляющая искорка Нездешнего - тех, «кто истинно жив» и «никогда не умрёт». Это о них сказано: «Дано нам созерцать сквозь первозданность Льда/На трупе Бога танец Заратустры».
Сборник стихотворений и поэм Сергея Яшина «Денди Норда», увидевший свет в рамках обширной издательской программы Орденского Опричного Братства св. преп. Иосифа Волоцкого – драгоценный подарок для ценителей изящного, истинного, Живого Слова и ослепительной нордическо-имперской археофутуристической образности. Небольшой (карманный) формат, непритязательное оформление, ограниченный тираж... Кстати, знаменитый альманах акмеистов «Гиперборей», где публиковались стихи Николая Гумилёва, Александра Блока, Сергея Городецкого и других признанных мастеров Серебряного Века, не был «глянцевым», но, тем не менее, он сыграл выдающуюся роль в становлении русской национальной поэзии. Обычно такие книжечки издают провинциальные «писательские организации», чьи члены - сплошь «таланты» и «мэтры», истерически рвущиеся в Союз Писателей и готовые ради этого излить друг на друга тонны «моральной» грязи и фекалий. Зрелище печальное и поучительное! И наблюдая сие, невольно приходишь к провокационной «еретической» мысли, что иногда «фестивали сожжения книг» сверхнеобходимы. С «Временем Померанцев» на устах отправить в бушующее очистительное пламя бессмысленные, дурнопахнущие, старческие, многотиражные (какой показатель!) «поэтические кладбИща»!
Поэзия Сергея Яшина и родственных ему поэтов, входящих в опричный «Правый Фронт Искусств», варварски-агрессивна, архаична (по сравнению с некоторыми фальшивыми «экспериментаторами» постмодернистского толка, хвастающимися своими «достижениями» и всячески «пропагандирующими» их) и необычайно символична. Она одинаково оперирует бронзовым, «дорическим» слогом «тотальной мобилизации», неосредневековой «готической» утончённостью и «фронтовым», вскормленным в траншеях, блиндажах и на кровавых пашнях сражений Священной Войны, национал-декадансом, воспевающим «нашу невесту – смерть» как аристократический путь кшатрия, «тропу Бетельгейзе» («Чтобы чуять холод лезвий/В королевстве Бетельгейзе»), ведущую через погибель в бессмертие «Великой Осени». «Любовь завершается только Смертью/В режиме реального садо-мазо». Но самое поразительное это то, что ныне – именно здесь и сейчас – мы являемся свидетелями рождения действительно новой, смелой, явно способной исцелить исстрадавшуюся душу, красно-чёрной «кромешной» поэзии Железного Века – Века Мощи Стальной Колесницы, Эона Нации Фасций и Ядерного Китеж-Града – триумфальной, меченосной, элитарной, орденской. К стихотворениям Сергея Александровича всецело подходит девиз «The Pure Roman Style! – Истинно Римский Стиль!» (кредо именитого итальянского консервативно-авангардного музыкального лейбла HauRuck!SPQR (http://www.hauruckspqr.com/)). Сергей Яшин, томящийся в начале XXI века в узилище лужковско-церетелиевской «Московии», стольного града «незрячих флейтистов Азатота» (который, явно «по привычке», «грозно» именуют «Третьим Римом»), на самом деле принадлежит мостовым и площадям, дворцам и виллам, храмам и форумам, акведукам и магистралям Рима «иного», непроявленного, спрятанного в космическом мешке-ловушке «тягчайшей тени». Рима, царственно раскинувшегося под «запретным небом Европы». А ещё поэт постоянно странствует по провинциям, «тайным областям» и лимесам необъятной грядущей Империи-Imperium – то его можно заметить у рунических камней и в круге менгиров Ультима Туле («Я нордический денди, влюблённый в своё отраженье,/Я прошёл босиком по едва освещённой дороге./Пусть со мною богини узнают, что значит томленье/И роскошную трапезу делят суровые боги» или потрясающие строчки «Скользил я сквозь льды, что навеки уснули./Скользил я под небом, где стыла Звезда./А дальше была только ULTIMA THULE,/За вечною гранью полярного Льда»), то на озябших берегах неспокойного Балтикума или в «родных тоннелях» катакомб, в рядах уставших, но счастливых, бойцов фрайкора, готовых ринуться в атаку за Фатерлянд («Едины сейчас мы в повстанческой вере,/Мы пьём за знамёна грядущей Империи»), то в метели на непроходимых снежных перевалах Тибета и в просторных гулких залах величественных, головокружительных чертогов небожителей Агартхи («К забытым алтарям мы возвратились вновь/Сопутствует опять нам солнечная слава»). Сергей Александрович опьяняется грохотом морских волн, разбивающихся близ магического острова Чефалу, где некогда располагалось легендарное кроулеанское аббатство Телема («Я это Он – Небесный и Земной;/Создавший всё в горниле трансформаций…/В Чефалу волны бьют. Я слышу их прибой…») и созерцает в пурпурно-багровых, истекающих жертвенной кровью, апокалиптических небесах пришествие Грозового Ангела с карающей секирой в деснице («Белый ангел сжал в деснице/Окровавленный Топор»), исполнителя Воли «Подпольного Мессии, Запретного Христа». Или он бродит по дорожкам старинных парков, засыпанных пестрядью пахучей осенней листвы, и прохладным полутёмным галереям готических замков («Сожги мне горло красная тинктура,/Сведи мне скулы горечью микстур./Как древних чертежей запретная фигура/Восстанет из руин священный Монсегюр»), где всё ещё обитают мудрые духи былого, помнящие славные времена шумных племён Богини Дану, гэльской героической Британии Артура, норманнских набегов и блистательных Крестовых Походов. Или леденящий, пробирающий насквозь, darkwave «Ангелов Смерти», «Детей Тишины» и «Мёртвых Детей» - стихотворений настолько притягательно-пронзительных и жестоких, ассоциирующихся с инфернально-декадентскими видениями Октава Мирбо, Георга Тракля или Ганса Гейнца Эверса, что становится как-то немного не по себе – неуютно и пасмурно, будто в свинцовом предзимнем ноябре, когда в ночи слышится отдалённое эхо близящейся Дикой Охоты – Wutende Heer, Последнего Батальона Годо. Кто они – Ангелы Смерти - «убитые дети с кинжалами вместо рук», «посланцы какой-то Звезды», крылатые гонцы «гибельной вести», приносящие нечеловеческие боль, страдание и гибель совокупляющейся, потной от вожделения и страсти, похотливой плоти в будуарах, уничтожающие одним стремительно-точным ударом лезвия гламурные сексуальные «фантазии» (в духе г-на Лимонова) и оставляющие после себя лишь зияющую чёрную рану молчания и смятые, ещё не успевшие остыть, простыни? «Пока им неведомо, что просочилось в их дом;/Но ужас в их горле, блевотным трепещет комком», - о, все мы - воистину ВСЕ! - обречены (ибо заслужили!) стать их «подопытными экземплярами», мишенями их благой и милостивой ярости, ибо, как когда-то писал Максимилиан Волошин: «О, Господи, разверзни, расточи,/Пошли на нас огнь, язвы и бичи». «Убитые дети с кинжалами вместо рук» отпустят нам грехи раз и навсегда…
Мы только тени, только сны,
И мы невиннее, чем дети.
Но в час полночной тишины,
МЫ ПРИНЕСЁМ ВАМ БЛАГО СМЕРТИ.
(«ДЕТИ ТИШИНЫ»)
Все шесть разделов сборника - «Денди Норда», «Vive Dieu Saint A-Mor», «Под Крылом Смерти», «Время Померанцев», «Агартхи», «Северный Телем» - это целые темы для отдельных, более развёрнутых и детально проработанных, эссе и статей – настолько сильно и великолепно их эстетико-философское наполнение и внутреннее, обращённое к «знающим», послание. По сути, каждое стихотворение – это алхимическая гравюра из своего рода «катакомбной» “Mutus Liber” – Немой Книги, которую можно «расшифровывать» сколь угодно долго и всё время находить что-то «особенное», ранее не замеченное. И потому искренне радуешься тому, что эта книга (безусловно, ожидаемая и нужная сейчас!) пришла, наконец, к своим читателям.
Как это не прискорбно, но основная масса поклонников Сергея Александровича Яшина знакома, преимущественно, с его национал-революционной «поэзией для голоса», неоднократно печатавшейся в периодике (например, отменная подборка в газете «Завтра» (с несколько «неадекватным» предисловием), постоянные публикации в журналах «Атеней», «Европеецъ» и “Ultima Thule”) и на web-сайтах. В «Денди Норда» перед нами предстаёт «незнакомый Сергей Яшин» - удивительный новатор, яркий эстет, подлинный виртуоз художественного слова, Поэт с большой буквы, Звёздный Князь, гроссмейстер Ордена Опричных Миннезингеров. «Есть ощущение того, что нынешнее одряхлевшее время разрешится каким-то катастрофическим, но спасительным переворотом», - утверждает теоретик Огненного Православия, философ и идеолог Православной Консервативной Революции Роман Бычков. «Денди Норда» есть преодоление «дряхлости времени» и руководство к действию для «детей тишины», что обрели крепость и мощь «тоталитарных магов» («Мы – алхимики чудовищной расправы./Парадиз нам, благо, не обещан…»).
ВАМ, ИСКАВШИМ НАШИХ ТЕРРИТОРИЙ,
НИКУДА ОТ НАС УЖЕ НЕ ДЕТЬСЯ.
|